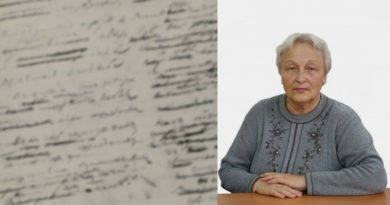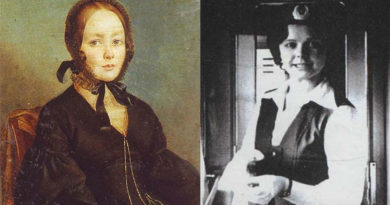Пушкинские трапезы
В старые времена в дворянских семьях особенно ценилось кулинарное искусство. Всё сколько-нибудь связанное с сервировкой стола, приготовлением и приёмом пищи носило ярко выраженный ритуальный характер. Вкусное, сладкое, аппетитное почиталось как «самое лучшее средство для укрепления здоровья». Повара, отобранные из наиболее талантливых дворовых людей, непрестанно совершенствовали мастерство под строгим и неослабным хозяйским присмотром. Да и сами обитатели «дворянских гнёзд» охотно занимались составлением хранившихся потом в секрете рецептов фамильных блюд и напитков, коими и потчевали многочисленных гостей с традиционным русским радушием. Неизвестный автор «Ручной книги русской опытной хозяйки» ещё в начале XIX века писал: «Не порицая ни немецкой, ни французской кухни, я думаю, что для всех нас <…> здоровее и полезнее всё наше родное русское, то, к чему мы привыкли, с чем свыклись, что извлечено опытом, передано от отцов к детям и определяется местностью нашего бытия, климатом и образом жизни. <…> В каждом доме должна быть кулинария отечества, кулинария родного края, кулинария своего рода и семьи!»
Древний род Пушкиных, берущий начало от легендарного сподвижника Александра Невского, был известен достойным и уважительным отношением к этой стороне жизни. В числе своих наиболее именитых предков сам Пушкин называл царского стольника, уже по положению причастного к устройству великокняжеских пиров, трапез и застолий. Родной брат его деда по материнской линии Пётр Ганнибал прославился неуёмной страстью к изготовлению собственных водок и настоек, без устали и вдохновенно возводимых им в высочайший градус крепости. Пушкин делился впечатлениями после посещения двоюродного деда: «Велел он и мне поднести: я не поморщился – и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа». Биограф Пушкина, деликатнейший Павел Анненков, пояснял ситуацию: «Водка, которою старый арап потчевал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оценить её…»
Известно, что в селе Петровское, в поместье Ганнибалов, любовно читаемой была книга Василия Левшина, популярного тогда, а ныне забытого автора многочисленных сельскохозяйственных, экономических руководств, наставлений по домоводству, ветеринарии, охоте и рыбной ловле, а также строению мельниц: водяных, ветряных, «горячими парами, скотскими и человеческими силами в действие приводимых». Тульский помещик Левшин был известным составителем старинных кулинарных книг. Приготовленные по его рецептам блюда и разносолы подавались взыскательным посетителям модных рестораций и клубов. Почитателям талантов кулинара – поместным дворянам – Пушкин посвятил строки:
Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина птенцы.
Гостеприимным хозяином был и отец поэта. «Сергей Львович, – писал друг Пушкина, князь Пётр Андреевич Вяземский, – видно, в брата хлебосол и любит кормить». Именно на обеде у Сергея Львовича Вяземский узнал о скорой женитьбе поэта: «Более всего убедила меня в истине женитьбы твоей вторая, экстренная бутылка шампанского, которую отец твой разлил нам при получении твоего последнего письма <…> Я мог не верить письмам твоим, слезам его, но не мог не поверить его шампанскому. – Поздравляю тебя от всей души». Вяземский добродушно подшучивает здесь над известной близким друзьям поэта якобы скупостью Сергея Львовича, который распространял эту черту характера не только на себя, но и на всех домашних. «Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли (сказал Лев) так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» – «Извините, сударь (с чувством возразил отец), не двадцать, а тридцать пять копеек»». Разумеется в этой истории более тёплой душевной иронии, нежели правды. Добрая шутка и остроумие всегда ценились в семье поэта. Именно в контексте доброжелательной иронии и следует рассматривать известную эпиграмму друга поэта Антона Дельвига, о котором сам Пушкин писал: «Никто на свете не был мне ближе Дельвига»:
Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яйц гнилых –
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.
Красавица Анна Керн уже после женитьбы поэта «видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислой капустою: «Это шотландское блюдо», заметив при этом, что он никогда и ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов». Сам же Сергей Львович, по меткому замечанию Юрия Тынянова, предавался еде с удовольствием: «Он ел медленно, страстно, со знанием дела».

Гастрономом, по выражению поэта, был и его младший брат Лёвушка – Лев Сергеевич Пушкин, имевший пристрастие к солёному и острому. Декабрист Лорер тепло вспоминал сослуживца-однополчанина: «Весь лагерь был в восторге от Пушкина, и можно было быть уверенным: где Пушкин, там кружок и весело». Превосходно читавший стихи своего брата Лев не доставлял «этого наслаждения своим слушателям до тех пор, пока не поставят перед ним лимбургского сыра и несколько бутылок вина». Дельвиг с присущей ему прямотой писал о Льве Сергеевиче: «Он любил много есть, и пить вина». Вяземский вспоминает курьёзный случай, когда Баратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире. «Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали, в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им больше не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар; да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовали они себе несколько дней».
Одно из стихотворений, сочинённых Дельвигом вместе с Баратынским, начиналось строфой:
Наш приятель, Пушкин Лёв,
Не лишен рассудка,
И с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут и без слов,
Что он более здоров
Силою желудка…
И даже незадолго до смерти он с улыбкой повторял: «Не пить мне больше кахетинского…» Вяземский, искренне переживавший смерть брата Пушкина, одновременно сожалел и об утратах пушкинского поэтического наследия, признанным хранителем которого считался Лев Сергеевич. «С ним, можно сказать, погребены многие стихотворения брата его, неизданные, может быть, даже и незаписанные, которые он один знал наизусть. Память его была та же типография, частию потаённая и контрабандная».
Брат отца поэта Василий Львович, известный модник, шутник и стихотворец, держал повара Власа, умевшего порадовать барина настоящим парижским консоме, бывшим тогда большой новостью в Москве и составлявшим предмет законной гордости взыскательного хозяина. Сильное беспокойство братьев по поводу внезапной болезни повара выразилось в стансах, сочинённых Сергеем Львовичем в изящном вкусе XVIII века, где подробно описывались переживания богов, с нетерпением ожидающих Власа к себе на небо в надежде полакомиться замечательным консоме, который уж точно лучше божественного нектара…

Гостеприимство, эта характерная черта быта семьи Пушкина, нередко становилось объектом нападок недругов поэта. «Вечный недостаток во всём, начиная от денег до последнего стакана. Когда у них обедывало человека два-три лишних, то всегда присылали к нам, по соседству, за приборами». Недоброжелательность тона бывшего лицейского однокашника Пушкина – Модиньки Корфа – здесь очевидна. По свидетельству легендарного директора Пушкинского заповедника Семена Гейченко, отмечавшего неисчерпаемость провиантских запасов Михайловского, «…здесь было всё, что требовалось хорошей кухне: куры, утки, гуси, индюшки, овцы, телята, коровы и пчёлы. Молока, масла, сметаны, сливок, творогу было преизрядно… А сколько фруктов каждый год давал большой дедовский сад с его яблонями – антоновкой, боровинкой, грушовкой, очаковскими сливами, вишнями, грушами!» В реке и озёрах в изобилии водились караси, лещи, язи, налимы, щуки, сомы, раки.
Сам поэт любил изысканные блюда, но особой привередливостью в еде да питье не отличался. «Он вовсе не был лакомка, – считал князь Вяземский, – он даже, думаю, не ценил и не хорошо постигал тайны поваренного искусства, но на оные вещи был ужасный прожора». Пушкин обожал домашний суп, ботвинью, кашу, печёный картофель, скороспелые блины, мочёную морошку, варенья из айвы и крыжовника. Крыжовенное было, пожалуй, самым любимым деревенским вареньем Пушкина. Сваренное с соблюдением всех старинных народных правил, оно являло собой довольно сложную конгломерацию тончайших природных ароматов. «Я спешу послать вам банку крыжовника, которая поджидала вас всю осень», – приятная весточка из Тригорского от Прасковьи Осиповой-Вульф, хорошо осведомлённой о вкусах соседа. Мать Пушкина Надежда Осиповна относилась к приготовлению варенья серьёзно и основательно. Благо возможности сада имения Михайловское казались неисчерпаемыми. «…Сегодня я пешком ходила в Михайловское, что делаю довольно часто, единственно чтобы погулять по нашему саду и варить варенье; плодов множество, я уж и не придумаю, что делать с вишнями; в нынешнем году много тоже будет белых слив», – писала она летом 1829 года дочери в Петербург. Даже литературные герои пушкинских произведений не обходятся без варенья. Татьяна Ларина, отправляясь в Москву, не забывает взять с собой «варенье в банках».

Весьма серьёзно относились к заготовке варенья и в имении Гончаровых в Полотняном Заводе. В начале второй четверти XIX века в погребах Гончаровых хранилось более 8 пудов не менее двенадцати сортов этого благоуханного продукта: клубничное, из малины белой и малины красной, из вишни, из красной, чёрной и белой смородины, грушевое, сливовое, из крыжовника, персиков, абрикосов и ананасов, выращенных здесь же в просторной оранжерее.
Тогдашняя «Сельская энциклопедия» называла секреты изготовления крыжовенного варенья, почитаемого «отличным и самым наилучшим из деревенских варений»: «Очищенный от семечек, сполосканный, зелёный, неспелый крыжовник, собранный между 10 и 15 июня, сложить в муравленый горшок, перекладывая рядами вишнёвых листьев и немного щавелем и шпинатом. Залить крепкой водкой, закрыть крышкой, обмазать оную тестом, вставить на несколько часов в печь. На другой день вынуть крыжовник, всыпать в холодную воду со льдом, через час перемешать воду и один раз с ней вскипятить, потом второй раз, потом третий, потом положить ягоды опять в холодную воду со льдом, которую перемешать несколько раз, каждый раз держа в ней ягоды по четверти часа, потом откинуть ягоды на решето, а когда стечёт, разложить на скатерть льняную, а когда обсохнут, свесить на безмене, каждый фунт ягод требует два фунта сахара и один стакан воды. Сварить сироп из трёх четвертей сахару, прокипятить, снять пену и сей горячий сироп влить в ягоды и поставить кипятиться, а как станет кипеть, осыпать остальным сахаром, раза три вскипятить ключом, а потом держать на лёгком огне, пробуя на вкус. После всего сложить варенье в фунтовые банки и завернуть их вощёной бумагою, а сверху пузырём обвязать».
Любопытно, что и в зимнюю пору на обеденных столах дворян в изобилии присутствовали весьма экзотические деликатесы: ананасы, персики, виноград, спаржа, сливы. Гостившие в России племянницы леди Гамильтон, Кэтрин и Марта Вильмот, находились под огромным впечатлением от русских обедов. «На огромный квадратный стол подают суп, фаршированные яйца, гидромель или квас, жареное мясо с солёными огурцами, осетровую икру, молочного поросёнка со сметаной, кашу (это общее название для крупы, запечённой со сливками), – пишет Марта. – А может быть, ты захочешь рыбного супа? Дичи? Птицы? Овощей? Яблочного пирога? Крымских или сибирских яблок? Киевских засахаренных фруктов? Медовых сот? Варенья из роз? Маринованных слив? Умоляю тебя, не ешь больше ни крошки, так как в шесть или семь часов тебе придется сесть за трапезу столь же обильную, под названием «ужин»». Ананасы были традиционным атрибутом десерта, подаваемого в дорогих ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Зимой 1819 года ананас был подан к обеденному столу Евгения Онегина.
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
Состоятельные обитатели обеих столиц, обедавшие дома, посылали за ананасами в соседнюю лавку. Но одновременно в дворянских поместьях вошло в моду сооружение вместительных теплиц и оранжерей для выращивания диковинных овощей, ягод и фруктов. Это стало тогда распространённым явлением. На вельможных столах золотистые сочные ананасы часто соседствовали с блюдами русской национальной кухни. М. И. Пыляев в «Старом житье» пишет об аристократе графе А. П. Завадовском, потреблявшем ананасы не только «сырыми и варёными, но даже квашеными: у него ананасы рубили в кадушках, как простую капусту, и делали потом из них щи и борщ».
Поэт не был привередлив в еде. Многие современники указывают даже на его некоторую воздержанность и избирательность. Пушкин любил обедать ближе к вечеру, а до этого практически ничего не ел. В такой умеренности многие видели стремление походить на Байрона, подобным образом боровшегося с полнотой. В одном из писем Пушкин так описывал свой распорядок дня: «Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трёх часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да гречневой кашей. До девяти часов читаю. Вот тебе мой день, и всё на одно лицо». Вместе с тем брата Льва Пушкин просил прислать горчицы и сыру лимбургского. «Душа моя, горчицы, рому, что-нибудь. В уксусе». А на вечере у Павла Нащокина обратил внимание на «шампанское, лафит, зажжённый пунш с ананасами». Жене писал, что в Уральске «тамошний атаман и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда <…> и покормили меня свежей икрой, при мне приготовленной». Доверительно сообщал Наталье Николаевне: «Тётка меня всё балует – для моего дня рождения прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой…»
Двадцать три раза в стихах упоминал о шампанском, а в поэтическом послании брату признавался:
Ныне нет во мне пристрастья,
Без разбора за столом,
Друг разумный сладострастья,
Вина обхожу кругом.
Всё люблю я понемногу –
Часто двигаю стакан,
Часто пью – но, слава богу,
Редко, редко лягу пьян.
О прохладном отношении Пушкина к крепким напиткам рассказывал служивший его камердинером в 1831–1833 годах Никифор Емельянович Фёдоров – спустя много лет после гибели поэта отвечая на вопросы Н. А. Лейкина на Пушкинском празднике в Москве, он утверждал, что Александр Сергеевич «лимонад очень любил. Бывало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночь и ставишь. А вина много не любил. Пил так, т.е. средственно».

Эстетическое наслаждение, доставляемое видом, вкусом, ароматом простых и изысканных блюд, сопровождалось ни с чем не сравнимой радостью одновременного общения с близкими друзьями. «Жду тебя, – писал Пушкин Алексею Вульфу, – с отверстыми объятиями и с откупоренными бутылками». Щедрой и приветливой хозяйкой в Михайловском бывала няня поэта Арина Родионовна. Навестивший Пушкина поэт Николай Языков посвятил ей славные строки:
Как сладостно твоё святое хлебосольство,
Нам баловало вкус и жажды своевольство!
С каким радушием – красою древних лет –
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного стола!
На Псковщине Языков пришёл к простому и удивительному выводу: «Изобилие плодов земных, благорастворение воздуха <…> деревенская прелесть природы, наконец, сладости и сласти искусственные, как-то: варенья, вина и проч. – всё это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное, одним словом – житьё».
В доме Осиповых-Вульф, бережно соблюдавших старинные русские трапезные традиции, Пушкин близко соприкоснулся с чудесным обычаем отмечать частые именины пирогами и тортами, Рождество – тушёным гусем, Пасху – пышными куличами. Свои письма сюда Пушкин подписывал «Ваш яблочный пирог». Слава о псковских пирогах благодаря имени поэта прокатилась по всей России. В императорском дворце как-то разыгрывалось действо по роману «Евгений Онегин». Сам государь император выступил в роли Онегина. В роли Татьяны блистала императрица. Во дворце угощали привезёнными из Пскова яблочными пирогами. И благодаря чьей-то веселой шутке не только эти пироги, но и все блюда, подаваемые в тот день на царский стол, были названы пушкинскими. Так, с легкой руки неизвестного шутника, и пошли по ресторанам, трактирам, постоялым дворам Москвы, Петербурга и других городов России пушкинские супы, котлеты, компоты, мороженое, конфеты и даже мармелад.
Фрейлина императорского двора Александра Осиповна Россет-Смирнова, бывшая в приятельских отношениях с Пушкиным, вспоминает, что, женившись, поэт обзавёлся кухней по собственному вкусу. А. О. Смирнова с удовольствием рассказывала об обедах в пушкинском доме, со знанием дела описала подававшиеся к обеду блюда. «Обед составляли щи или зелёный суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем, а на десерт – варенье с белым крыжовником». В беседе с хорошо знавшим Пушкина русским дипломатом Николаем Киселёвым она продолжает: «Представьте себе, Киселёв, что блины бывают гречневые, потом с начинкой из рубленых яиц, потом крупчатые блины со снетками, потом крупчатые розовые.
– Об розовых я и понятия не имею. Как их делают розовыми?
– Со свёклой. Пушкин съедал их 30 штук, после каждого блина выпивал глоток воды и не испытывал ни малейшей тяжести в желудке».
При этом жаркое на обеде тогда было принято подавать последним блюдом перед сладким столом (четвёртой переменой):
Да вот в бутылке засмолённой,
Между жарким и бланманже,
Цимлянское несут уже.
Званых гостей в доме Пушкиных ожидали холодные осетрина и телятина, щи с белыми грибами, гусь с капустой, чай с ромом, а иногда предлагалось отведать новомодное блюдо «макароны». Пушкин писал своему другу С. А. Соболевскому:
У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Да яишницу свари…
Важной частью тогдашнего меню были различные десерты. Ягодный десерт включал клюкву, бруснику и морошку. Пушкин любил клюкву с сахаром, мочёные фрукты. При этом клюкву в сахаре, вспоминает воспитанница П. И. Вульфа Е. Е. Синицина, ему обыкновенно подавали на блюдечке. Крыжовенное варенье поедал ложками и запивал холодным топлёным молоком с ледника.
Продукты в последнюю квартиру Пушкина в Петербурге, в дом княгини Волконской на Мойке, 12, доставлялись с расположенного поблизости Круглого рынка, архитектурного творения знаменитого зодчего Джакомо Кваренги. Имевший три одинаковых фасада со скульптурными украшениями в виде бычьих голов каменный рынок был сооружён в 1785–1790-х годах близ Конюшенного моста на месте сгоревшего деревянного Харчевого базара. В соседнем здании разместились провиантские склады, образующие вместе с торговыми помещениями единый комплекс по Мойке и Круглому переулку. Подвоз съестных припасов осуществлялся в основном по реке. Торговлю на рынке вели два десятка лавок, которые передавались частным торговцам. Семья поэта, постоянно приобретавшая здесь продукты, была хорошо известна местным купцам. Поэтому не только провизия, но и многие хозяйственные товары – масло для ламп, свечи, фитили и мыло – предоставлялись Пушкину в долг. Именно сюда был отправлен слуга за мочёной морошкой, которую, как вспоминают В. И. Даль и В. А. Жуковский, умирающий поэт попросил за полчаса до смерти.
Удобное место расположения нового рынка делало его весьма привлекательным для проживавшей в центре города петербургской аристократии. Его прилавки всегда ломились от первосортной и самой свежей снеди. Многие сановные вельможи с удовольствием пользовались услугами имевшего добрую славу рынка. Отсюда на кухни дворцов и знатных особняков доставлялись продукты для приготовления званых обедов и ужинов. Именно здесь приобретались необходимые ингредиенты для многочисленных приправ, соусов и десертов.

Изумительным яблочным десертом поэта угощали в гостеприимном петербургском доме бывшего московского и санкт-петербургского губернатора Сергея Сергеевича Кушникова на Гагаринской улице. Пушкин дружил с дочерьми старого сенатора. Автору этих строк удалось отведать и в полной мере оценить вкус этого удивительного лакомства, приготовленного по старинному семейному рецепту, пришедшему от Александры Дмитриевны Кушниковой, готовившей в начале прошлого века отменный десерт из ароматных чухлинских яблок: «Четыре сладких яблока очистить, разрезать каждое на четыре части, положить в духовку на увлажнённый яблочным соком противень. Уже запечённые яблоки залить стаканом молока с хорошо размешанной в нём столовой ложкой муки, сдобрить ванилью и вернуть в духовку до полной готовности».
Многие черты повседневного провинциального уклада Тригорского нашли отражение в творчестве поэта, особенно в характеристике быта семьи Лариных, которые
…Хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод…
Именно в Тригорском, наблюдая «к гостям усердие большое», Пушкин подмечал столь важные для него детали подлинного обряда угощения.
В кабинете Вульфа стоит вместительный серебряный жбан, прикрытый сверху скрещёнными шпагами, с возвышающейся на них большой белой головой сахара. Здесь приготавливалась знаменитая жжёнка. «Сестра моя Евпраксия, – вспоминал Вульф удивительные мгновения общения с поэтом, – бывало, заваривает всем нам после обеда жжёнку; сестра прекрасно её варила, да и Пушкин, её всегдашний пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жжёнку». Поэт, по словам Павла Нащокина, называл жжёнку «Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее всё в порядок влияние на желудок». Один из популярных в позапрошлом веке способов приготовления жжёнки выглядел так: в серебряную вазу влить две бутылки шампанского, одну бутылку доброго рома, одну бутылку отменного сотерна, положить два фунта сахара, изрезанный ломтями ананас и вскипятить на плите; вылить в фарфоровую вазу, на ее края положить крестообразно две серебряные вилки или шпаги, на них большой кусок сахара, обильно полить его ромом, зажечь и подливать ром, чтобы весь сахар воспламенился и растаял. Готовую жжёнку брать серебряной суповой ложкой и разливать в ковшики или кубки. «И вот мы, – заключал Вульф, – из больших бокалов – сидим, беседуем и распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи <…> сопровождали нашу дружескую пирушку».
Постижение самого духа русских трапезных традиций, проникновение в глубины их почти ритуальной обрядности являлось для великого поэта своеобразным ключом к пониманию природы русского национального характера, к осознанию внутренних закономерностей развития всей отечественной культуры.
Владимир ГАЗЕТОВ,
член Союза журналистов Москвы