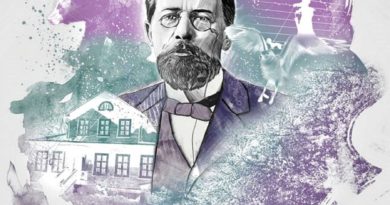Вдовы
Марина Архипова
Руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ «Ансамбль русской песни «Тальяночка»», поэт, автор песен, вошедших в культурный фонд области («Тамбовская картошечка», «Чулочки из Рассказова» и др.). Родом из Котовска, и потому тема памяти, утраты и судеб наших земляков ей особенно близка.
Я только окончила школу, поступила в институт и впервые в жизни оказалась в тамбовской глубинке на целый месяц – новоиспечённые студенты отправились в колхоз на уборку картошки. Автобус затормозил на сельской площади, подняв такую пыль, что мы друг друга не видели. Кто‑то закашлял, чихнул – дышать было нечем. Девушки стайкой выпорхнули из автобуса, размахивая руками в надежде рассеять эту пыль, которая висела в воздухе тяжёлой серой пеленой. Где‑то сбоку хлопнула дверь, и перед шумной гудящей толпой возник крепкий плечистый мужчина. За его спиной стояла женщина в синем халате поверх ситцевого платья. Она внимательно смотрела в спину своего руководителя, словно боялась пропустить что‑то важное. На студентов она не смотрела, будто их и не было вовсе. Наконец мужчина произнёс:
– Приехали.
Сказал он это с какой‑то странной интонацией – то ли с удивлением, то ли с досадой, как будто прибывшие нарушили его планы. Женщина достала из кармана халата ученическую тетрадь, сложенную вдвое, и молча подала руководителю. Он отстранился, бросил на ходу:
– Сама, сама… Расселяй! – И пошёл в сторону «газика», около которого важничал шофёр.
Мы снова погрузились в автобус, который вздыхая двинулся по ухабистой дороге. Сельская улица совсем не походила на городскую. Строения были одноэтажные, отстоящие друг от друга на большом расстоянии. Как‑то всё выглядело неровно и пёстро. Дома были выкрашены зелёной, синей, коричневой красками, и только окошки были похожи белыми нарядными наличниками.
Начались первые остановки по дороге. Хозяйки стояли у забора, приветствовали женщину в синем халате словами: «Здраствыишь! Давай четверых или пятерых!» Какую цифру называли, столько девушек и выбегало. Оставшиеся в автобусе смешили друг друга, тряслись, подскакивали на заднем сиденье. Наконец дошла очередь и до нас. Дом, у которого остановился автобус, был старый, но крепкий, из тёса. И странно, из дома никто не вышел нам навстречу. Женщина в синем халате стремительно зашагала в сторону дома вместе с нами, помогая тащить чемоданы и рюкзаки. На ходу заглянула в свою тетрадь, как бы сверяясь, и обронила:
– Щас будет. Ждите. – Она повернулась к нам спиной и направилась к ожидавшему её автобусу, что‑то скомандовала водителю, автобус затарахтел, уезжая и поднимая пыль до неба в качестве прощания.
Мы резвились около забора, беззаботно болтали и не заметили, как долго изучали нас глаза невысокой женщины.
– Ну добро, пташки, идёмте.
Наша четвёрка наперегонки бросилась за хозяйкой осваивать новое жильё. Дом состоял из длинных сеней и огромной горницы. В светлой прохладной горнице были деревянные полы, тоже светлые. Помещение было по-деревенски нарядным. Чего здесь только не было – полотенце на божнице, голубые незабудки на скатерти, горы подушек в вышитых наволочках, милые занавесочки с выпуклой гладью. Входную дверь обрамляли льняные полотна с лебедями. Девчонки переглядывались между собой. В каждой головке промелькнуло: «старомодно». Женщина будто прочитала наши мысли, повернулась спиной и пошла, пояснив на ходу:
– За вещами идёмте. Добро занести надо!
Мы помчались за ней во двор, где лежали брошенные чемоданы. Хозяйка развела руками и спросила:
– На кой же столько? – Но, увидев наши удивлённые лица, сама же и ответила: – Городские!
Мы всё затащили и стали распаковывать. Хозяйка наблюдала со стороны снисходительно, ласково. Она сразу принесла махотку с холодным молоком, белый ноздреватый хлеб и эмалированные кружки, которые почему‑то называла обливными. Мы моргали друг другу: чем их облили? Пока наша четвёрка наслаждалась едой, женщина представилась сама:
– Тётка Анна.
Спросила наши имена и предложила решить, кто будет спать на полу на пуховых перинах. Тут разгорелась нешуточная баталия. Такая экзотика – спать на полу! С боем подружки выторговали себе это право. Нам с Ириной досталась кровать, широкая, железная, со множеством шариков на спинках, которые мы с удовольствием откручивали и прикручивали в отсутствие хозяйки, компенсируя наше поражение с местом ночлега.
Два дня уже работали в поле. Восторг от сельской жизни прошёл быстро. На третий день, когда после тяжёлой физической работы, не привычной городским пигалицам, разболелись руки и ноги, обветрило лицо, появились мозоли, пыла в работе поубавилось. Вдобавок туалет был на улице, мыться приходилось в какой‑то хозяйственной постройке, а точнее, дырявом сарае – бр-р… как холодно. Баню обещали через две недели. Работы я не боялась, всегда старалась быть впереди, но вот моё хрупкое здоровье неженки подвело. Через неделю, когда зарядил дождь, у меня разболелись «коленные, локтевые и лучезапястные суставы» – так потом было записано в моей медицинской карте городской поликлиники. Наступил день, когда я с трудом встала и оделась. Слёзы текли от боли. На работу идти не смогла. Тётка Анна захлопотала около меня, заохала, велела идти к фельдшерице Фоминичне. Я дважды ходила в поисках медички (так говорили местные жители), но натыкалась на закрытую дверь. В третий раз моя трудная дорога через боль увенчалась успехом – дверь была открыта, но доктора я не увидела. В кабинете стояла женщина в фуфайке и резиновых сапогах. Я что‑то промямлила про необходимость встречи с врачом. Женщина велела раздеться и стала трогать мои руки и ноги, я заохала, раздражаясь ещё больше оттого, что она не звала врача.
– У кого живёшь? – спросила эта тетка. Внутри меня всё протестовало: где же врач? Почему не зовут доктора? При чём тут место жительства и кто это вообще? Прервав череду вопросов в моей голове, новая знакомая сказала: – На работу не ходи, дам справку. Анне скажешь, пусть печь затопит, тепло тебе нужно. Это ювениальный полиартрит. – Последние два слова совершенно не вязались с видом женщины в фуфайке. Увидев недоумение на моём лице, она сказала тоном учительницы: – Родишь – всё пройдёт.
Я еле доплелась до тётки-Анниного дома. Всю дорогу шла, думая про медичку: «Дура». Сколько лет живу, столько и стыжусь того слова. Не моё это слово, нет его в моей речи, но тогда я наотмашь хлестанула ту незнакомку. И только потом, став взрослой, родив дочь и избавившись от болезни, поняла, что была она профессором медицины для всей округи, ведь ей приходилось и зубы лечить, и роды принимать, и вывихи выправлять, и многое другое делать без посторонней помощи, самой. Всю жизнь прошу у неё прощения за то слово глупое, злое, слово девчонки, не знавшей жизни.
Тётка Анна меня жалела, то пряник какой протянет, то яблоко. Было приятно и смешно. Уж слишком скромны были такие подарки против любимых «Мишки на севере», «А ну-ка, отними» и других московских конфет. Оставаться в доме одной было скучно. Девчонки уходили на работу, а я комочком лежала и страдала. Телевизора и радио не было. Иногда в горницу ко мне в друзья пробирался кот, но тётка Анна его сразу выгоняла, приговаривая: «Ух, базыльнай! До чего же базыльнай!» Когда она говорила непонятное мне слово, я всегда переспрашивала значение. Тётке Анне это льстило, она с удовольствием принималась объяснять: «Везде лезет, ворует, значит, базыльнай».
Хозяйка, поняв, что мне грустно, договорилась с завклубом Людмилой Николаевной и заведующей библиотекой Александрой Васильевной о моём приходе. Клуб и библиотека были в одном здании. Небольшой коридор от входной двери переходил в зал с высокой, очень узкой сценой. Справа от зала находилась библиотека. Я сразу пошла в библиотеку, записалась, поговорили. Библиотекарша оказалась милым, отзывчивым человеком. Я похвалилась, что с пятого класса работала в школьной библиотеке. Александра Васильевна сразу нашла во мне помощницу, обрадовалась, напоила чаем с травами, вкусным, душистым, которого я и не пила никогда, угостила домашними ржаными пышками. Что‑то в её облике напоминало бабушку, обволакивало теплотой. После беседы за чаепитием пошли искать клубных работников. Они все стояли на улице вместе с молодёжью, держали какие‑то плакаты и транспаранты. Оказалось, это только что вернувшаяся с поля агитбригада. Говорили громко, смеялись. Александра Васильевна обняла меня и повела знакомиться с молодёжью. Ещё толком не поговорили, а вопросами меня уже забросали: «Поёшь? Стихи читаешь? А в агитке когда участвовала?» Я вертела, как флюгер, головой, купалась во внимании и даже про боль забыла. Решили в выходной делать совместный, со студенческим участием, концерт для тружеников села. Гурьбой вошли в клуб, предлагая на ходу репертуар концерта. В этот момент вошла дама. Я её сразу так окрестила. На даму она, конечно, не тянула. Но на фоне простенькой одежды окружающих отличалась кардинально. Дама была крупная, руками двигала во все стороны, подгребая пространство к себе со всем находящимся вблизи. Вид был ошеломляющий. Бусы на шее, бордовая помада на губах, сумка на руке и здоровенный золотой перстень на пальце. Всё кричало о том, что это творческий человек. Я поняла, что это и есть Людмила Николаевна, заведующая местным клубом. Самым странным в её облике была речь. Претенциозность внешнего вида никак не вязалась с речью – простой, деревенской, своей. Этот диссонанс рассмешил сразу, но грозный взгляд останавливал от комментариев даже в собственной голове. Прослушав все наши пожелания о концерте, она по-свойски скомандовала:
– Хорошо. Вот и давайте. Делайте.
С ребятами сговорились о встрече в клубе вечером, после работы, с нашим институтским преподавателем. Местные говорили: «Завклуб сказала, что артистов из филармонии привезут». Её так и звали: «завклуб», в мужском роде. И впечатление было – скала. Вечера стали добрыми. Звучала гитара, наперебой предлагались песни, бардовские, студенческие и даже две собственного сочинения наших мальчишек. Куда‑то далеко отошёл вечерний холодок и чернота неосвещённой ночи. «На ветвях у тополя качается звезда…» – в который раз пели мы самозабвенно. Мальчишки, даже самые ершистые, ещё не очень знакомые, сразу стали своими, поменяли дерзкие песни Высоцкого на лирику. «Посмотри, снег идёт, дай же руку скорей. Пусть зима отдохнёт на ладони твоей». Под такие слова все сразу стали влюбляться. А тут ещё пятикурсников нам на подмогу прислали на две недели. Это была бригада парней. Наши девчонки сразу запорхали, затараторили наперебой. О новых знакомых, о шутках за обедом на полевом стане.
Тётка Анна принесла мне какие‑то колючие тряпицы, обмотала мои колени и локти и толкнула в плечо: «Собирайси, а то женихов разберут». Вместе со своими подружками впервые пошла на вечернюю встречу у костра с пятикурсниками. Здорово было, интересно, весело. Девушки кокетничали, чувствуя внимание взрослых парней. Пекли картошку, пели песни, слушали анекдоты и истории. С картошкой произошёл конфуз. Я, как все, взяла себе картоху из костра. Да, забыла сказать, что не только картошку мы звали картохой, но и применяли в разговоре намеренно местные словечки. Иронизировали. Слова вставляли, где можно и нельзя. На нас не обижались, считали это каким‑то баловством. Так вот, взяла я горячую картоху и сразу бросила на траву. Палец обожгла. Все вокруг засмеялись, кроме одного парня. Я почувствовала на себе его взгляд, хотя своими подслеповатыми глазами, да ещё и со слезинками, предательски повисшими на ресницах после ожога, и рассмотреть‑то ничего не могла. Парень, обративший на меня внимание, пружинисто встал и оказался в свете пламени костра. Все взоры обратились к нему. Из всех присутствовавших на встрече он был единственным одетым не по форме, не для колхоза. На нём ладно сидели модные джинсы, мохеровый пуловер, поверх которого тоже была джинсовая куртка, вся в карманах и заклёпках. Впечатление он производил сильное: инопланетянин, не иначе. Двадцать человек, сидевших вокруг костра, как братья-близнецы, были в чёрных фуфайках, человека три в нейлоновых куртках, что уже было шиком. Всё смолкло, даже гитарист положил руки на струны, остановил песню. Только костёр потрескивал. Джинсовый человек разломил мою отлетевшую картошку, положил у моих ног и сказал:
– Дерзай. – Через секунду удалился на своё место.
Я зарделась, про себя лихорадочно подумала: «Не заметят, может, от костра жарко». Чуть замявшись, взяла одну половинку картошки и стала откусывать по краешку, стремясь захватить жёлтую распаренную середину зубами. Через мгновение народ снова ожил. Смешки раздались с противоположной от меня стороны. Чья‑то девичья рука достала из кармана фуфайки зеркальце в пластмассовом ободке, малюсенькое, круглое, и протянула мне. Послышалось: «Хрюша. Среди нас поросёнок». Я даже обидеться не успела. Джинсовый человек опять вскочил, приблизился ко мне и из-за голенища мягкого чёрного сапога достал ложку, сложенную пополам. Щёлкнул, раскрыл её и дал мне в руку. Из другой моей руки взял картошку, почистил на траве от глянцевой чёрной корки и произнёс:
– Тебе будь удобно и не горячо. Ешь. – Улыбнулся во всё лицо и добавил: – Это ложка американских солдат.
Земля под ногами уехала в сторону, небо закачалось, дышать было нечем. В глазах потемнело, в ушах загудело, но через несколько долгих секунд я поняла, что этот «фирмач», как тогда говорили, сделал из меня королеву. Пришло первое в жизни ощущение сильного мужского плеча, защиты. И очень странное и незнакомое доселе чувство своей власти и превосходства. Всё происходящее понимал каждый присутствующий. И тут с трона меня быстро возвратила Ирка. Она громко и чётко объявила:
– Марина у нас больна. Идёмте, девочки, нам завтра в поле, пора спать уже.
На подкосившихся ватных ногах я тоже поднялась и пошла за подругами, выдавив:
– Пока.
Фирмач встал со словами:
– Проводить?
Ирка обернулась к нему и изрекла:
– Да уж не надо, дорогу знаем.
Шли молча. У самого дома тётки Анны девчонки окружили Ирку. Самая старшая из нас, Оля, задала вопрос:
– Ты чего?
– Ничего, – буркнула ответчица справедливо вопрошающей и быстро подскочила к двери. Звякнула щеколда.
– С Иркой не разговариваем, – продолжила Оля и тоже пошла в дом.
Помявшись, вошли и мы следом. Говорить не хотелось. Трое молча улеглись спать, а Ира выпорхнула на улицу. Я всё думала, как же завтра быть. Вроде и не ссорились, а на душе кошки скребли. Если помните, на одной кровати мы спали именно с моей обидчицей. Я повернулась лицом к старенькому прикроватному коврику и уснула. Конечно, не слышала Иркиных шагов украдкой, всхлипываний и тяжёлых вздохов. Об этом мне на утро поведали притворившиеся уснувшими на своих перинах мои защитницы.
Хлопотавшая тётка Анна подняла нас. Была она очень неспокойна, на себя не похожа. Когда девчонки ушли, подошла ко мне, глянула в глаза и очень мягко спросила:
– Ты вечером к костру идёшь?
Я не раздумывая ответила: «Нет». Тётка Анна опять вкрадчиво заговорила, пообещала, что суставчики мои полечит, подвяжет тряпицами с мазью. Всё уговаривала: «Иди, иди». Я упёрлась и только тогда узнала, что день сегодняшний был непростой. В этот день ежегодно после войны вдовые подруги собирались у неё вечером после работы. Это был трудный день – первая похоронка 1941 года. И это даже не похоронка была. А письмо солдата-земляка, поведавшего о бомбёжке немцами нашего эшелона, после которой осталось в живых два десятка солдат. Похоронила себя после этого известия сама тётка Анна. Она не знала, как жить без своего любимого Санечки. Сначала выла. Потом от горя почернела, высохла. Потом себе обет дала – замуж не выходить, детей не иметь, быть верной своему любимому. Это я потом всё узнала, а в эту минуту мы никак не могли прийти к нужному решению. Я не могла появиться перед пятикурсниками после вчерашнего демарша, не хотела рассказывать о предательстве подруги. Тётка Анна не видела необходимости незнакомой девчонке раскрывать душу. Мы сидели и молчали. Я подняла глаза и увидела мокрые щёки тётки Анны. Не задумываясь бросилась к ней и взялась уговаривать:
– Ну разрешите мне остаться, тётечка Анечка, разрешите!
Она концом ситцевого платка вытерла глаза и выдохнула:
– Оставайси. Только не болтай. Молчи больше. – Погладила меня по голове, вздохнула с надрывом и вышла.
Мне пришлось одеваться без помощи тётки Анны. Процедура была долгая, с остановками и мычанием от боли. Но я справилась всё‑таки. Хозяйки нигде не было видно. Прикрытую уличную дверь я подпёрла палкой, лежавшей под лавкой около крыльца. Здесь двери никто на ключ не закрывал, просто прикрытую дверь снаружи припирали палкой, воткнув её одним концом в землю. Это был условный знак, понятный всякому: хозяев дома нет. Поверить в это сегодня невозможно, но тогда никто не удивлялся. Тропиночка повела меня в клуб. Первой на пути встретилась Людмила Николаевна. Она кивнула и опрометью бросилась в библиотеку к телефону, который большим чёрным монолитом стоял на старой тумбочке. Таких аппаратов давно в помине не было. А здесь он ещё проживал бурную жизнь. Людмила Николаевна схватила трубку и грозно прокричала: «Хто это?» Через паузу закивала: «А-а, ага-ага…» Это были ответы на не слышные мне вопросы. Долго так она агакала, но потом резко бросила: «Скажи, Николавна велела. Всё». Не будь меня, она бы поговорила крепкими словами гораздо быстрее. А сейчас, недовольная разговором, только махнула рукой и удалилась. Утро в библиотеке всегда начиналось светло от ласковой и милой улыбки Александры Васильевны. Даже мои болячки не беспокоили – так тепло и спокойно было около неё, умиротворённо. Александра Васильевна включила электрический чайник, достала газетный свёрток и развернула. В нём оказались ещё тёплые пирожки, завёрнутые в льняной клочок. Я сказала, что уже завтракала. Но Александра Васильевна словно и не слышала меня:
– Чаю попьём, поговорим, а потом за дело. Мне сегодня твоя помощь будет как нельзя кстати. Пораньше уйти нужно. Очень нужно.
Я обрадовалась, что буду полезна. После чая взялись за проверку формуляров, оформление новых книг и ремонт старых. Время пролетело незаметно. Библиотекарша посмотрела на часы. Было пять вечера.
– Пойдём, Маринка, – была команда к окончанию работы. – Спасибо, девонька, приходи завтра. Сможешь?
Довольная приглашением, я сказала:
– Конечно!
Из клуба каждая пошла своей дорогой. Подойдя к дому тётки Анны, я увидела на лавочке двух женщин, одна из которых показалась мне знакомой. Вблизи уже я поняла, что эта женщина нас расселяла. Только синего халата на ней не было. Другую я никогда не видела. Мы поздоровались, и я вошла в дом. В горнице на столе была расстелена новая цветная клеёнка. А свёрнутые перины перекочевали в сени. Хозяйка хлопотала, резала, накладывала еду в тарелки.
– Поди руки помой. Помогать будешь.
Я стала накрывать стол, протёрла маленькие гранёные стаканчики и попыталась красиво всё расставить на новой клеёнке. Запахло мятой – тётка Анна наливала квас в рыжую махотку. И опять подумалось: как у бабушки. Хорошие они, эти женщины, только с виду неприступные какие‑то. Так кажется сначала. Чем больше их узнаёшь, тем больше прикипаешь к ним, понимаешь, отвечаешь взаимностью. Размышления прервались стукнувшей щеколдой входной двери. На пороге возникла целая группа женщин, не скрывающих своего удивления от моего присутствия. Тётка Анна сразу сказала в мою защиту:
– Она не помешает.
К столу вереницей направились женщина без халата, неизвестная, медичка, дама и Александра Васильевна, библиотекарша. Я с интересом смотрела, как они рассаживались по-свойски. И в то же время торжественно, серьёзно. За длинный прямоугольный стол, передвинутый в центр, на лавки сели Александра Васильевна с дамой, напротив медичка с женщиной без халата. С торцов – хозяйка и незнакомка, которой оказывалось всяческое почтение. Я присела с края около библиотекарши. Она поднялась и пропустила меня в середину лавки со словами: «Что ты, что ты, на угол не садись. Замуж ни выйдешь». Я повиновалась и оказалась между Александрой Васильевной и дамой. Когда все уселись, встала незнакомка со словами:
– Давайте помянем братца моего ро́дного, твоего, значит, мужа. Смерть он принял первый, как герой. Помолимся за него и всех героев наших ро́дных…
Молитва звучала тихо, но красиво, на голоса. Дама гудела с незнакомкой, Александра Васильевна пискляво отделялась. Слов молитвы я не знала, но как же красиво они лились по всей деревенской избе. Звучала эта молитва возвышенно, проникновенно, и казалось, что святые на иконах улыбались в дрожании малюсенького огонька лампадки. Мурашки побежали по спине. Такое истовое моление я видела впервые. Это было не кино, а чья‑то живая настоящая жизнь. Да не чья‑то, а уже знакомых мне немного деревенских женщин. По кругу пошла кутья. Этот обряд был знаком от бабушки, поэтому и моя ладошка подчинилась общему движению. Все смотрели с одобрением. Я заработала плюс. Маленькие стаканчики наполнились мутноватым самогоном, и все выпили до дна.
– Закусывайте, – произнесла тётка Анна, двигая тарелки в сторону подруг. Мне в кружку налили квасу. Под квас около тарелок стояли разнокалиберные кружки и стаканы по форме и цвету. Для меня, привыкшей к домашним праздничным застольям в кругу друзей, родителей, странно было увидеть такую нестройность, пестроту обстановки. Дома в торжественные дни стелилась роскошная скатерть, блюда подавались на маминой любимой японской посуде из огромного сервиза. Вазы, хрусталь – всё добавляло красоты. Но что удивительно, кричащая непарадность трапезы лишь усиливала понимание невероятной чистоты, духовности, великой доброты и силы этих женщин. Меня обволакивало чувство единения с ними, делало лучше. Пропала важность украшательства, душа парила во внутренней чистоте и умиротворении. Ощущение было удивительное.
Из небольшого чугуна, покрытого чугунной же сковородой, наливала тётка Анна лапшу. Не половником, как в городе, а большим деревянным ковшом. Перевернёт ковш – порция, перевернёт – другая. Быстро так, ловко. Лапшу ели молча. Пустые тарелки поставили горкой на край стола. Тётка Анна шепнула мне: «В таз положи, в воду». Александра Васильевна меня сразу пропустила. Я всё быстро выполнила и вернулась на место. Наполнили стаканчики во второй раз. Снова поднялась незнакомка и сказала:
– Давайте помянем… Не пришлось пожить нам с ними вдоволь. А хотелось, как у мамани с папаней. Долгую жизню прожить, дружно. И чтоб деток народить по-людски. – Она запнулась, помолчала и продолжила: – Помянем воина Ивана, воина Василия, воина Александра…
Встала следом медичка и продолжила: «… воина Филиппа, воина Захария…»; женщина без халата поднялась и продолжила, за ней тётка Анна, всплакнув, прибавила дорогие имена, добавила Александра Васильевна тоненьким голоском, чуть хрипловато закончила дама. Неизвестная обвела взглядом всех и виновато с улыбкой сказала:
– Помянем всех-всех, бабоньки. Со сродниками.
Незнакомка и дама выпили по полной, остальные только пригубили. Дама раскраснелась, заёрзала и с досадой процедила сквозь зубы:
– Вы‑то счастливые. Вот у Нюрки (так она называла тётку Анну. – М. А.) портрет над кроватью висит. Каждый день с мужиком своим говорит. А у меня и карточки нет. Расписались, и ушёл. И всё. – Она крупной ладонью закрыла лицо. Замолчала.
Александра Васильевна потянулась через мою спину к подруге, достала до плеча и стала приговаривать:
– Будет, будет. Уж тридцать первый год после войны пошёл. А ты всё про карточку.
Встряла незнакомка в разговор:
– У Бога мёртвых нет. У него все живые. Они все тут сейчас, с нами. Рядом.
И тут вдруг заголосила тётка Анна, так пронзительно, что я вздрогнула: «Ой-и-ой-и-ой-та… И на кого же вы нас покинули, и на кого же оставили. И как же наши душеньки изболелись… И без вас‑то мы сироты-ы-и-и-и-и…» Ей ещё жалостнее вторила библиотекарша: «Одинёшеньки мы на белом свете-е-е-е. Никто нас не пожалеет, слёзки не утрёт. И детушек мы в зыбке не качали-и-и-и. И нет без вас жизни, нет света». Тишина после воплей стояла мёртвая. Только ходики на стене стучали и стучали. Жили своей ровной, размеренной жизнью. Все заохали, засморкались. Дама налила себе ещё, быстро выпила, вытерла губы и, не закусывая, затянула: «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя…». Подхватили сразу и другие, и полилась песня, звеня и переливаясь. Я тоже тихонечко вступила: «…дам винтовку свою, а за это за всё ты отдай мне жену». Александра Васильевна кивнула мне, улыбнулась. Она вообще всегда улыбалась, располагала к себе. Будто и не было в её сердце горя. Вот и теперь снова поглаживала спину дамы, облокотившись слегка на меня, вразумляла её:
– Ты не части, не части. А то голова завтра болеть будет.
Дама оборвала песню на полуслове:
– У Нюрки самогон – стекло. – И продолжила с новой силой: – «…С молодых юных лет ты погубишь её…» – Потом снова остановила песню и, повернувшись ко мне, сказала: – Молодец, девка. Наша. – Засмеялась чему‑то своему и стала вспоминать: – Ох, бабы, вы вспомните, как меня замуж отдавали!
За столом рассмеялись, зашевелились, вытаскивая давние события, обмякли.
– А ты чё молчишь? – ткнула дама пальцем в воздухе в сторону медички. – Ты с Филькой своим у нас на свадьбе на второй день слитурилась.
Не обидевшись, с достоинством заговорила медичка:
– Да, полюбили мы друг друга сразу. Это уж и он мне потом признался. Дышать оба не могли. А на гармошке когда заиграл, я поняла – пропала. Сердце как застучит – не остановишь. На первый день я стеснялась, всё приглядывалась. А на второй день, думаю, пойду. Набралась храбрости, да как началась дроби бить, и с подскоками, и с присядкой. И даже не устала. Сила в ногах.
– Могутная! – вставила дама.
– Да. А потом остановилась, передохнула, да как в глаза ему глянула, и всё тут. Мой ты, думаю, Филипп Петрович. Вот мой. Неловко сначала было. Он‑то мужик, а я‑то свиристелка. А потом взгляд его поймала, махнула платком да уж и уходить наладилась. А сама знаю: за мной пойдёт. Кабы не война, поводила бы его, помучила.
Затихла медичка, а я увидела перед собой красивую женщину, ладную, бойкую, только руки не шли к этой красоте. Они были натруженные, красные, грубые. «От какой‑то другой фигуры», – подумалось мне.
– А у меня за иконками все письма Стёпушки. Все до единого. И похоронка тоже. На Воронежском фронте сгинул, – медленно выговаривала женщина без халата, рассказывая мне.
Не понимала я тогда всей глубины чувств этих женщин до конца – юная была, жила легко. Мама работала в индустриальном техникуме преподавателем электротехники. Отец был инженером-конструктором на военном заводе. Все были молоды, здоровы. Возили меня по стране, по музеям, собирали библиотеку, с наслаждением взахлёб читали, встречались с друзьями, ходили в походы. Много чего было. И всё радостное, свежее, яркое. В семье я была единственным ребёнком. Забот не знала. Родители баловали. Только потом, спустя годы, пришло понимание важности той встречи с деревенскими вдовами. Встречи, которая открыла мне великую святость простой русской женщины. Благодарю Бога и свою молодую цепкую память, сохранившую в деталях те далёкие дни.
Женщина без халата продолжила:
– Читаю, бывало, письма и вроде голос слышу Стёпин. Он меня по имени никогда и не звал. Все цвяточек да цвяточек полевой. Теперь не читаю. Так все назубок знаю. И-и-их. – Дама снова наполнила стаканчик и выпила. Остальные молча пригубили. Дама обратилась к хозяйке: – Нюрк, блинов мине с собой дашь. Завтра ребят угощу. У тебя блины пуховые! – Тут же мне вопрос задала: – Песни дедовские откуда знаешь?
Я рассказала, что дед у меня гармонист, фронтовик, в доме без песен не живут. Да и мама моя пела очень красиво. Совсем маленькую учила меня петь на два голоса. Купила мне немецкий звонкий ксилофон, учила играть. А сама легко освоила аккордеон. Дама выслушала и, как печать, поставила, сказав:
– Девка ты, конечно, городская, но не выкобениваисси. И не надо. Наши люди всё смекают. – И она снова низким бархатным голосом завела другую песню: «За грибами в лес девицы гурьбой собрались…»
Я не отставала, пела со всеми, радовалась в душе, что песни эти знаю. В глазах поющих читала одобрение в свой адрес. Как же они мне стали близки за этот вечер, как дороги! Ведь я снова и снова возвращаюсь к тому застолью, вспоминаю, перебираю в памяти каждую мелочь. Каждую.
Загалдели во дворе девчонки. Смеялись, спотыкались в темноте. И сразу пропало, спряталось за киоты икон, как фронтовые письма, то незримое, родниковое, то, чем жила всегда Россия. Её люди. Напоказ этого не увидеть. Девчонки вошли счастливые, неугомонные. А у меня тогда заболела душа, защемило сердце оттого, что когда‑то эти женщины щебетали, как мы. Только война перекрасила их жизни чёрным цветом. И отобрала близких.
Первой встала дама.
– Девки помогут. Нюр, блины!
Собравшись, стали подниматься из-за стола. Женщина без халата убирала под платок выбившиеся седые пряди волос. Библиотекарша поправляла платье. Тётка Анна вышла всех проводить. Девчонки с задором рассказывали о танцах, кавалерах, но я слушала вскользь. Не могла сразу переключиться на другую волну. Тётка Анна вернулась и сразу пригласила девочек за стол.
– Покушайте, чего Бог послал.
Дважды звать не пришлось. Голодные студентки набросились на еду. А мы с тёткой Анной направились в сени мыть посуду.
– Устала? – мягко спросила она.
– Нет, что вы. Спасибо за вечер. – Я обняла тётку Анну. Она стояла в кольце моих рук, чужая и в то же время близкая мне, очень понятная, и растворялась в моей неуклюжей чувственности. Так хотелось объяснить ей, что я многое увидела и поняла. Но слова не приходили. Чуть отстранясь, взяв мои тоненькие ручки в свои сильные, глянула в глаза глубоко-глубоко, с таким пониманием и любовью, что внутри меня что‑то новое, вечное откликнулось. Я повзрослела. Мы стояли вдвоём в своём мире, тонком, очень возвышенном, в тёмных сенях, а за дверью взахлёб хохотали, жевали, возились бесшабашно и молодо. Тётка Анна погладила меня по спине, по волосам:
– Завтра поговорим. Иди к своим. Заждалися. Не нахвалятся.
Ночь прошла мгновенно. Подружки умчались на работу, а тётка Анна в горницу вошла очень торжественно. Её торжественность была странной до той поры, пока она так же величественно не подошла к огромному сундуку и не скатала с него домотканый половик. Загремело железо, и крышка старого сундука открылась. Поманив к себе, тётка Анна сняла какую‑то серую ткань, и моему взору открылось нечто бело-кремовое.
– Это мой свадебный. Забирай. На память.
Это был тулуп. Она бережно накинула мне на плечи эту махину. Я влезла в рукава, стало мягко и тепло, даже жарко. Тулуп был мне впору. Я разглядывала такую необыкновенную вещь: красная вышивка украшала горловину, подол, рукава и запашную полу. Интересна была и кожаная пуговица. Такую я не видела никогда. Скручена она была так, как рогалики пекутся – верхний уголок приоткрывал предыдущие слои. Мозг будущего инженера работал: если взять равнобедренный треугольник большой высоты с малым основанием, закрутить основание до вершины, то получится именно такая пуговица. Сама пуговица тоже была украшена красными нитками. Рассматривать было интересно, но тут я себя представила в актовом зале института, совершенно огромном, где первокурсникам вручали студенческие билеты. Вспомнила, как танцевала вальс с преподавателем нашей кафедры – Василевским. Вообразила себя в этом тулупе до пят и расхохоталась. Тётка Анна растерянно улыбалась. Я сняла с себя древнюю красоту и вынесла вердикт:
– Спасибо, конечно, только куда я его дену? Убирайте его на своё место. – Про себя подумала: «Куда этот тулуп девать? Он же полквартиры займёт».
– Как знаешь, – проронила хозяйка и стала аккуратно выкладывать это меховое чудо в сундук.
Я пошла в библиотеку. По дороге возвращалась к мыслям о тулупе. Понимала, что расстроила тётку Анну, но юность – советчик плохой. Шла и веселилась – наряжала себя в этот тулуп, югославские зимние замшевые сапожки на шнуровке, модный финский батник и джинсы и смеялась до самого клуба. Молодая дурочка. Я и не догадывалась, как дорога была эта вещь тётке Анне. В том тулупе вся память о дорогом человеке, которого война забрала. О малом времени счастья, о первой и единственной любви.
В разных этнографических музеях побывала я. Но такой невероятной красоты не видела. До сих пор в глазах я в тулупе, смеющаяся, молодая, и тётка Анна рядом с грустными-грустными глазами.
Давно не ворошила прошлое, но как припомнила, так опять больно стало за беды и горе войны, за несложившиеся женские судьбы.
А те милые женщины, с которыми свела меня дорожка, достойны самых тёплых слов. Я люблю их:
тётку Анну,
Александру Васильевну,
женщину в синем халате,
даму,
незнакомку,
медичку.
Светлая им память!
И великое уважение.