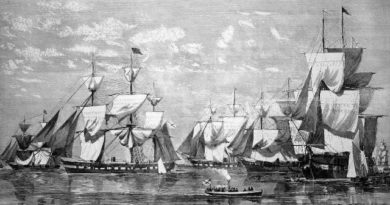Дорога на БАМ

Юрий Николаевич Васюнькин – заслуженный работник культуры РФ, московский журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России. И. о. генерального директора Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), главный редактор журнала «Вестник МАГ», является исполнительным директором Рязанского землячества в Москве, почётный работник печати и средств массовой информации Рязанской области.
Его первые публикации появились в газете «Рязанский комсомолец», во время службы в армии являлся военкором газеты Московского округа ПВО «На боевом посту». После демобилизации окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, работал в районной и центральной прессе, в Гостелерадио СССР (РГТРК «Останкино»).
Его профессиональная деятельность отмечена Почётной грамотой министра связи и массовых коммуникаций РФ, грамотами и медалями Союза писателей России, почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», медалью «100 лет Союзу журналистов России». Автор нескольких книг.
Эти недавно найденные воспоминания о поездке на студенческую практику в Тынду были написаны им сразу по возвращении с БАМа, став своеобразным отражением впечатлений от встреч с людьми и постижения России за семь дней пути.
5 мая 1980 года. 16:30. Москва. Ярославский вокзал
Моросит мелкий дождик. Сиротливо жмутся к стенам вокзала портфели, чемоданы, мешки, ранее вольготно расставленные на платформах. Мелькают растерянные, сосредоточенные, взволнованные лица, спешат, наполняя вокзал суетой и вызывая тревожно-радостное предчувствие дороги, расставанья… Впереди шесть суток пути.
В толпе мелькает знакомое лицо: Димка, мой одногруппник! Приятно, когда тебя приходят провожать друзья. Рассказывает последние новости. Виктории Васильевне Учёновой, нашему преподавателю и куратору группы на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, присвоили премию Coюза журналистов СССР! Весьма заслуженно! Достойный человек, преподаватель, учёный, поэт! И главное – это она благословила меня на студенческую практику в далёкой таинственной Тынде, столице БАМа. Нам предстоит работать корреспондентами в тындинской газете «Авангард».
184-й поезд Москва – Хабаровск, 14-й вагон, 5-е место. Устраиваюсь в купе. Появляется Ваня, мой однокурсник, с которым мы вместе едем на практику. До отхода поезда 15 минут. Есть время сфотографироваться. Фон вагона с надписью «Москва – Тында» – уже романтика. Вернее, преддверие. А какая она будет на самом деле? Ведь хлеб романтики, как известно, пахнет дорогой, нехожеными тропами и потом. Непривычно пусто перед вагонами. Неприятный сеющий косой дождик прогнал всех провожающих с перрона. Ваня щёлкает затвором фотоаппарата, прикрывая ладонью объектив от дождинок.
19:16. Поезд трогается. Прыгаем в вагон. Димка идёт рядом с окном, машет рукой, постепенно отставая – поезд набирает скорость. До встречи, Москва!
За шероховатым из-за дождинок стеклом последние кварталы столицы, мелькающие в окне, кажутся готическими сказочными замками. В коридоре вагона включается радио, и сквозь помехи прорывается гусарский бархатный голос Боярского: «Куда вас, сударь, к чёрту, занесло? Неужто вам покой не по карма-а-ану?..»
Попутчиком у нас оказывается по счастливой случайности сибиряк, живущий недалеко от Тынды.
– Анатолий, – просто представился он. – Уже сорок два года, как живу на Дальнем Востоке.
Худощавое загорелое лицо, изрезанный глубокими морщинами лоб. Сильные, жилистые, перевитые синими венами руки. Просто и увлечённо рассказывает о своём крае, изредка вставляя в речь сибирское «ага». Сразу же выставляет на стол традиционный «набор путешественника»: водку, жареную курицу, хлеб, огурцы, лук.
– Как у вас насчёт комаров? – спрашиваем его.
– Да мошкары у нас хватает. Злая, спасу от неё нет. Вот сейчас по весне она начинает шевелиться. Ну ничего, годок, второй – и привыкаешь, – успокаивает сибиряк.
?!
Возвращается Анатолий домой из Сочи, где отдыхал в санатории. Только загар у него не мягкий южный, а свой, дальневосточный, рабочий. Он лесовоз. Не каждый даже классный шофёр выдержит такую работу. Смена двенадцать часов, сутки отдохнул – и снова с несколькими тоннами за спиной в путь. Вокруг тайга. Дорога, вьющаяся меж устремлённых ввысь лиственниц и сосен, да глухо ревущий мотор, часто на первой пониженной скорости. Тут сноровка нужна, характер. Чуть зазевался – и потащило уже беспомощную машину в сторону, забуксовали колёса. Жди теперь товарища на помощь.
– Насчёт этого у нас строго, – говорит Анатолий. – Нет такого: кто-то на трассе стоит, а ты мимо проехал. Непременно остановишься, узнаешь, нужна ли помощь, подмогнёшь. Зимой оно, конечно, потрудней: заледенит зимник, глаз да глаз нужен. А ночью в сон здорово клонит. За смену полторы пачки выкуриваешь – во рту горечь, а спать всё равно хочется. Одно средство: вылезешь из тёплой кабины – обожжёт дыхание морозом, круга два-три вокруг машины обежишь, потрёшь лицо снегом – глядишь, и взбодрился. Ага, однако минут через двадцать – двадцать пять снова в сон клонит. Зато после смены отоспишься, и если зима, то возьмёшь с собой лаечек – и в тайгу на охоту, а летом в моторку и вверх по Ольдою километров на двадцать. На рыбалку – хариус, линок, таймень. Хариуса – этого на перекате на блесну надо брать. А тайменя на «мыша». Знаете, как «мыша» делают? Берёшь винную пробку, обшиваешь бархатом, для груза с одной стороны пару дробинок втыкаешь, ну и крючок. И в воду. Наматываешь леску на барабан, а за «мышом» по воде след остаётся. Ага, таймень думает, что это мышь плывёт. Подбирается… и хлоп его хвостом. У него манера такая – сначала хвостом оглушит, а потом хватает… крючок, – улыбается довольный Анатолий. – Сразу чувствуешь приятную тяжесть в руках, – хитро щурясь, продолжает он, – ага, и давай накручивать леску. Чуть почувствовал слабину – беги по косе – всё равно не успеешь намотать лесу с такой скоростью, с которой таймень к берегу рванул. А он – резко в сторону и поминай как звали: оборвал лесу и ушёл, – и Анатолий в азарте хлопнул себя ладонями по коленям и заразительно засмеялся.
Мелькали в рассказе чудные, незнакомые названия: Амазар, Муртыгит, Тахтамыгда, Мадалан… От них веяло зноем полуденной тайги, шумом и треском падающих деревьев на лесоповале, сладким запахом ухи. Какая же ты, настоящая Сибирь? Скорее бы увидеть.
Поезд, постукивая на стыках, нёс нас по ночной России вперёд, к тому желанному дню приезда в Тынду.
6 мая
Проснулись в девятом часу. Проехали всего шестьсот с небольшим километров. Уже остались позади Ярославль и Кострома. Пейзаж за окном чаще однородный – смешанные леса: сосны, тополя, длинные стройные белоствольные берёзы. Половодье, речки разлились. У станции Шарья все дома в воде – русская Венеция. Возле каждого крыльца лодка, едва качающаяся на мелкой ряби. В некоторых сидят собаки, замерев будто изваяния, одним взглядом провожая убегающий вдаль поезд.
К станции Супротивное прибыли под бой полуденных курантов. Косой дождь исполосовал стекло окна, оставив водные знаки – точки и запятые дождинок. А в каждой, как под микроскопом, видна своя жизнь – десятки мелких пылинок совершают в ней своё неповторимое движение. Одни крутятся по часовой стрелке, другие почему-то против, но в конце концов скатываются вниз или высыхают, оставляя грязно-прозрачные пятнышки.
16:20. Трогаемся от Кирова – первого крупного города, не считая тех, что проехали ночью. Вокзал и площадь ничем не отличаются от городов средней полосы России. В одну сторону от площади отходит широкая дорога. В другой – лежит часть города, дома которого, как бы прыгая с холма на холм, взбираются выше и выше.
17:00. Окружённая лесом, промелькнула отметка первой тысячи километров.
19:00. Истекают первые сутки нашего пути. На душе как-то неуютно. Серое тоскливое небо без единого просвета. На стекле извиваются серебряные струйки дождя. Ваня выдвигает теорию о том, что человеческому организму недостаёт воздействия магнитного поля Земли, если он находится внутри металлического ограждения, роль которого у нас играет купе, вагон.
Плохая погода, недостаток движения, чего пока нельзя сказать о питании, и пять суток впереди – вот что, по-моему, оказывает заметное влияние. Начинаешь задумываться: а как же раньше по месяцу добирались на Дальний Восток? Или люди были другие? Скорее, время. Да, погода располагает к лирике, и тянет на размышления о бренности жития. А за окном – белоствольные берёзы непрерывной чередой бегут на Восток.
Как отрицанье жизни прозы,
То ветрошумны, то тихи,
Стоят пресветлые берёзы –
России белые стихи.
В. Сапронов
Быстро смеркается, заволакивает деревья контурами темноты. В полночь будем в Перми. Вагон уже спит. Только тишина бродит по еле освещённому пустынному коридору, заглядывая через окна вагона, покрытые бисеринками дождинок, в промозглость ночи, где мелькают жёлтые круглые фонари, словно глаза филина. Какой же будет день завтра?
7 мая
1816-й километр. Это отметка Свердловска. Даже из окон вагона видно – это большой и современный город. Расположен по обеим сторонам от железной дороги. Небо здесь такое же хмурое, но земля гораздо суше. Помню, приезжал в родное село на побывку из армии мой дядька, служивший под Свердловском. Отличился их ракетный дивизион – сбил американский разведывательный самолёт, и его поощрили отпуском домой. Быстро пролетело время. Сидели хмельные гости за столом, пели песни – провожали солдата. Уральскими самоцветами отражались солдатские знаки в блестящем самоваре, хлопотливо суетилась мать, собирая в дорогу немудрёную снедь. Кончился отпуск. Ждал дядьку во дворе храпящий конь, нетерпеливо перебирающий тонкими ногами, прядая ушами от падающих с мглистого неба снежинок и кося шальными чёрными глазами на соседского парня Валерку. А тот, покрикивая на разгулявшегося жеребца, еле удерживал его за уздечку. Ждали, чтобы отвезти солдата на станцию. Умчался солдат в снежную пургу. А я часто открывал его небольшой фотоальбом, оставленный дома, рассматривая его армейскую жизнь и бравых солдат-сослуживцев.
Остался позади Свердловск, как и Пермь, Кунгур с его знаменитыми сталактитовыми пещерами. Поезд Москва – Хабаровск торопился дальше на восток. А память услужливо возвращает время назад.
Ноябрь 1979 года. Пермь. Ездила весёлая шумная компания на свадьбу к Володьке Дерягину. После ЗАГСа возили нас нарядные машины по зимнему городу. Фотографировались, поздравляли счастливых жениха и невесту. Напоследок долго забирались по серпантину дороги на высокий холм, где стоит наковальня – символ города-труженика, откуда видна вся Пермь, с мощными заводами, старыми и новыми домами, незамерзающей рекой Камой. Легли на искрящийся холодный снег горящие красные гвоздики – в память о тех, кто завоевал нам эту жизнь.
Ритмично постукивают колёса. За окном пейзаж какой-то однообразный – не скажешь, что Сибирь, Азия…
Играем в карты. Ваня как-то смешно выхватывает карту из веера, как шашку из ножен, и с оттяжкой рубит ей по столику.
Проехали Петропавловск. Где-то в полночь будет Омск. Долго не могли уснуть. Душно. И только ночью купе наполняет желанная прохлада. Неожиданно ловлю себя на мысли, что мы становимся «вагонными людьми». Удивительно, как быстро человек, поставленный обстоятельствами в иные условия, привыкает к ним. Купе, где мы спим, пьём чай, играем, читаем, беседуем, коридор вагона, в котором мы разговариваем с другими пассажирами, вагон-ресторан, куда ходим обедать, – всё становится буднично, по-домашнему. Даже в вагонное окно смотрим как на экран телевизора, без осознания реальности происходящего. Выходя на перрон, ощущаешь твёрдую почву под ногами, и возникает ощущение, что не хватает привычного монотонного перестука колёс, покачивания вагона, позвякивания ложечки в стакане, хлопающих дверей купе.
Анатолий продолжает рассказывать о своём житье-бытье. Начал хорошо: с рыбалки, охоты, ягод, цветов, а кончил энцефалитом. Оказывается, на десять тысяч клещей один энцефалитный. Хотя мы перед поездкой сделали какие-то прививки, от этой болезни, по-моему, не делали и в душе не чаем, что этот паразит собой представляет. Лежу, и кажется, что кто-то по мне ползёт. Ваня тоже не спит, ворочается. Кстати, уже по возвращении выяснится, что прививку надо было делать за полгода до поездки, чтобы она реально начала действовать.
8 мая
Новосибирск-Главный. Московское время – девять часов, по местному – тринадцать. На перроне, как видим, тепло, но деревья стоят совершенно голые. Интересно, что же дальше будет, если столица Сибири подаёт такой пример? Говорят, что Байкал ещё подо льдом, да и проезжать его будем в час ночи.
У нас в купе теперь полный комплект. В Новосибирске к нам подсел Ривкат – сталеплавильщик из Башкирии, едет служить в Тынду. Заметив, что купе наше самое чаепьющее, удивляется. У них пьют медовуху или кумыс. Анатолий со свойственной ему сибирской простотой заинтересовывается:
– И какова убойная сила у медовухи?
Между разговорами «за жизнь» пьём чай, иногда что-то и покрепче, режемся в карты. С опозданием на два часа прибыли на станцию Тайга. Однако тайги не видно, хотя встречаются кедры, лиственницы. А станция представляет собой небольшой жёлто-зелёный вокзал, перенасыщенный архитектурными излишествами.
16:20. Время местное. Полустанок. Чувствуется предпраздничное настроение. Флаги, транспаранты. На крупных станциях у памятников воинам стоят в торжественном карауле пионеры. Завтра День Победы.
Не доезжая до Мариинска, поезд заметно убавил ход, и мы обогнали невесту с женихом в свадебном наряде. Взявшись за руки, они шли по рельсам к переезду. Счастливые! Как немного нам нужно для счастья и как много, чтобы его удержать…
Прошло трое суток, как мы в дороге. Проехали 3700 километров – это половина пути.
9 мая. День Победы



Московское время – двенадцать часов, по местному – семнадцать. По пути встречается много горящего леса. Гуляет кровавый пыл по верхушкам сосен, кедров, вспыхивают смоляные кроны, вздымая белёсый дым до небес. И гонит его ветер дальше, застилая горизонт, и нет дождя, который остановил бы огонь. И никакая техника не успевает преградить дорогу. Нагревает жар ветки соседних деревьев, и чуть коснётся их ненасытный язык пламени – занимаются как порох, выбрасывая протуберанцы пламени на десятки метров.
Спешил поезд дальше на восток, а жаркий ветер гнал за ним вслед едкий запах гари, окутывая блестящие рельсы голубоватой дымкой.
Станция Нижнеудинск. На перроне полно народа. Проводы в армию. Хрипят магнитофоны, стонут гитары, надрываются гармошки. Хулиганистый ветер срывает с призывников кепки, шляпы, оголяя их стриженые головы.
А в мае сорок пятого возвращались в родные края сибиряки, и звякали медали на выцветших гимнастёрках. С Победой возвращались. Как непохож был май сорок пятого на стылые морозы ноября сорок первого, когда сибирские полки перебрасывали под Москву. Есть и их, сибиряков, весомая доля в разгроме фашистов под Москвой. Четыре года им пришлось добираться обратно до дома. Через Варшаву и Берлин, Пловдив и Прагу лежал обратный путь. Кого-то не дождались бескрайние сибирские просторы… Помнят их земляки. Стоят памятники, обелиски, увенчанные красными звёздами, лежат у подножья таёжные цветы, замерли в почётном карауле пионеры.
Снова дорога. Часто встречаются сопки, густо поросшие лесом – будто частокол стоит на вершине. Вьётся меж сопок серебристая ветка пути, и видна бывает на крутом повороте голова поезда. Идут навстречу электровозы – тянут на запад крупные брёвна.
Уже часа три в купе чувствуется запах гари. Будто туманом застлан горизонт – то там, то здесь как из-под белёсого одеяла дыма вымываются руки огня. Темнеет. Подъезжаем к станции Зима. Это родина поэта Евтушенко. Почему-то вспоминается одна из его журнальных фотографий. Чуть прищуренные, с хитринкой глаза, ироничная улыбка и деревенская кепка, с некоторых пор перешедшая в разряд модных. И конечно же, стихи…
Корреспондент реакционный
строчит в блокнот:
«Здесь шум и гам аукционный.
Никто не знает про отлёт.
Что ищет русский человек
в болотах Тынд и Нарьян-Маров?
От взглядов красных комиссаров
он совершает свой побег…»
Корреспондент попрогрессивней
строчит,
вздыхая иногда:
«Что потрясло меня в России –
её движенье…
Но куда?
Когда пишу я строки эти,
передо мной стоит в буфете
и что-то пьёт –
сибирский бог,
но в нашем,
западном кримплене.
Альтернативы нет отныне –
с Россией
нужен
диалог!»
После Зимы долго ехали как в тоннеле – ни огонька. Где-то под утро должны проезжать Байкал. Решили всю ночь не спать – дожидаться.


10 мая
Усыпанное ночными огнями, проехали Черемхово.
03:00 – по местному. Иркутск встретил нас пустым перроном. Ни души, только холодный ветер гоняет по кругу обрывки газет – будто перед театральными декорациями бело-зелёного фасада вокзала, освещённого прожекторами. Поезд мчится дальше, как в песне, «навстречу утренней заре», только не «по Ангаре», а через неё. Ангара – дочь старого Байкала. А приближение самого Батюшки уже чувствуется – заметно похолодало.
И снова поезд окунулся в темноту. Изредка вспыхивают гирлянды огней – горит прошлогодняя трава на горбатых сопках. А кажется, что стоят на ночном рейде громады кораблей, высвеченных сигнальными огнями, чуть колышась на морской волне.
5312-й километр. Понемногу светало. И вдруг из-за сопки вынырнуло озеро, окутанное нежно-голубой дымкой. Байкал! Такое впечатление, что здесь вся синева небес собирается до первого луча солнца, чтобы затем разлиться по небосводу! Красота!
Миновав темноту двух тоннелей, поезд осторожно спускается с сопок к самому берегу. Байкал ещё подо льдом, но уже по-весеннему некрепким, изрезанным полыньями-морщинами. В распадке между сопками стоит небольшой посёлок. Аккуратные домики, чистые улицы. Тишина над озером, спят жители. Отгремели праздничные салюты, отзвучали торжественные речи, тосты в память о тех, кто не дожил до мирной тишины.
А 35 лет назад, когда страна праздновала победу над фашистской Германией, шли воинские эшелоны, украшенные кумачовыми лозунгами, летели по стране. Некоторые фронтовики уже начали возвращаться домой, а кому-то был дан приказ – двигаться через Байкал на Дальний Восток добивать Квантунскую армию. Медленно огибал поезд озеро. И как по команде на повороте выскочили из теплушек солдаты и рванули к зовущей синеве. Пару раз успели зачерпнуть в ладони и глотнуть леденящей зубы воды, набрали фляжки и спешили за отходящим составом. Был среди них и мой дед – бравый танкист-гвардеец, прошедший Финскую, дошедший до Кёнигсберга. Расслабленная гладь озера привлекала своей искрящейся чистотой, но неспокойно было на душе.
Весело наяривали гармошки, когда возвращались они с Победой снова через Байкал. Буйно зеленели сопки, спокойно дышала водная гладь озера, манила хрустальной чистотой. И как ни хотелось побыстрее добраться домой – велик был соблазн искупаться. Падали на берег пропахшие потом солдатские гимнастёрки, звеня металлом наград; прыгали парни в ошпаривающую холодом голубую воду, обвязав себя верёвками, чтобы судорога не свела – нелепо и обидно было бы умирать после всего пройденного. И каждый год в День Победы затягивал дед под гармонь песню о том незабываемом времени «Славное море – священный Байкал…». Многие из-за ран и контузий не дожили до сегодняшнего дня. И мы шестнадцатую годовщину Победы встречали уже без деда…
Вьётся серпантин дороги меж зеленеющих сопок, переходящих в яблоневый хребет, седые вершины которого сливаются с кипенно-молочными облаками.
Проехали Улан-Удэ. Дорога так же петляет, но сопки отодвинулись метров на триста.
Станция Петровский Завод: первые поселенцы – семь сосланных декабристов. Следующая станция так и называется – Декабристов. Подъезжаем к 6000-й отметке. Сопки отступили от полотна на 700–1200 метров. К дороге жмутся тонкие берёзки. Незаметно наплывают сумерки, изредка расцвечиваемые спешащими на запад составами с разноцветными, как бусы, иностранными контейнерами.
21:40 – по местному. Стоим у Читы. Наш вагон как раз остановился перед строем допризывников с рюкзаками и котомками. Прохаживаются перед ними их будущие командиры. Вспыхивают в темноте красные глазки сигарет. На перроне обычная суета. Как эти проводы похожи на мои…
Всё было: слёзы и овации,
Рыдал перрон во всю длину.
Нас провожали в авиацию,
Как провожают на войну.
Через двадцать минут поезд медленно трогается, погружаясь во мрак ночи. Дальше нас везёт тепловоз – электролиния кончилась. И снова летит в темноте сибирских просторов единственным светящимся огоньком из всего вагона наше купе. Уже пятая банка чая выпита за неторопливыми разговорами.
Дорога… Начало пути. Кто-то строит свою магистраль, кто-то протаптывает тропинку, кому-то нравится бесцельно бродить по уже асфальтированной дорожке. Общая дорога должна вроде бы сближать, но какие странные люди – они такие разные. Одних даже общая дорога разъединяет, для других отделяющее расстояние дороги – повышающий притяжение магнит, чем больше расстояние – тем сильнее притяжение.
11 мая
Проехали станции Могоча, Амазар. Позади осталось 7000 километров. Разница с Москвой – шесть часов. У самого полотна растёт багульник. Горизонт закрыт сопками. Всё чаще замечаешь на них белые шапки – ещё лежит снег. Станция Амазар. Вышел на перрон подышать свежим воздухом наш Анатолий и не вернулся. Неужели отстал? Если так, то ему здорово не везёт. Ведь почему он едет поездом – опоздал на самолёт, хотя чемодан с южными фруктами уже дома. До его станции остаётся где-то 500 километров, и там его должна встречать жена. Поезд трогается, мы с состраданием смотрим в угол купе, где сиротливо висит его пиджак. Но всё обошлось. Нашлась потеря. Оказалось, что в головных вагонах он встретил земляков, заговорился.
Часто встречаются мелкие неширокие речушки цвета слабо заваренного чая – вода приобретает такой цвет от опавшей хвои.
7115-й километр. 17:00 – по местному. Отъехали от станции Ерофей Павлович, названной так в честь русского первопроходца Хабарова, который останавливался здесь со своими людьми переждать суровую сибирскую зиму.
7267-й километр. Станция Тахтамыгда. Здесь попрощался с нами неунывающий сибиряк Анатолий Кушиков. Он дома – до его Мадалана рукой подать. Обнялись на прощание.
7273-й километр. Станция. Перед скромным зданием выложено крупными буквами «БАМ», а за ним два пятиэтажных дома с надписью «Байкало-Амурская мaгистраль». Это не просто слова – это следы истории, которую создают наши современники!
На станцию Сковородино прибыли точно по расписанию. Здесь крупное железнодорожное депо. Вечереет. Наш вагон отцепляют от основного состава, который последует в Хабаровск, и тут случается это…
По какой-то неведомой причине под колёса вагона не поставили «башмаки»-тормоза. И он, словно дикий зверь, случайно оставленный в незапертой клетке, ещё не веря в свою свободу, начал крадучись, а затем всё быстрее убегать. Катиться под уклон! Многие пассажиры уже дремали… Через несколько минут его было бы очень сложно остановить. Внезапно вынырнувшим из темноты «Летучим Голландцем» он промелькнул бы перед изумлённой толпой пассажиров на следующей станции. Тревожно загудели бы телефонные провода, хватались за голову дежурные диспетчеры, глотали валидол начальники станции. И, разогнавшись до приличной скорости, на одном из поворотов под смертельный визг металла он, вздрогнув всем телом, полетел бы под откос…
Да, могло бы получиться как в стихотворении Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне»: «…И каждый раз навек прощайтесь! Когда уходите на миг!»
К счастью, этого не произошло. Тётя Валя, наша проводница, грузная женщина уже преклонных лет, лихим десантником выпрыгнула из вагона и успела подложить под колесо доску. Отходившие ко сну пассажиры, как и мы, разбуженные шумом, поспешили узнать, в чём дело. Сковородино чуть не оказалось для нас Бермудским треугольником. Прав был наш сибиряк, когда говорил: «Бог создал Сочи, а чёрт – Сковородино и Могочи».
Наконец страсти поутихли. В коридоре мирно светится зелёным ночник и пыхтит раздухарившийся водогрейник «Титан». Вагон заснул, и только непривычно слышны в коридоре шаги нашей проводницы, как часового на посту, ранее поглощаемые перестуком колёс. Утром наш вагон прицепят к сборному составу, идущему в Тынду, и через несколько часов мы – в столице БАМа…
12 мая
17:00 – по Москве, 11:00 – по местному. Проснулся от удивлённых возгласов Ривката. Что ещё могло удивить после всего виденного этого рассудительного сталеплавильщика из Белорецка? За окном, гонимый порывистым ветром, летел снег… присыпая редкий кустарник, заваливая стоящие невдалеке сопки с остроконечными невзрачными елями, будто стражами, стоящими на вершинах. Рядом с поездом вьётся речка Тында, неся в кофейных водах белые островки льдин. Начали утепляться.
Проехали последние станции – Беленькую, Сети, которые представляют собой два-три кирпичных дома, а за ними – тайга.
Вот и она, Тында – столица стройки века. Небольшое деревянное здание вокзала. Вдали, на сопках, виднеются девяти- и пятиэтажные дома. Первые фотоснимки, первый глоток тындинского воздуха, в котором, как нас проинформировали, кислорода на 16% меньше нормы, первые впечатления.
Но ни слякоть, ни ветер с колким снегом не могут испортить приподнятого настроения, настоянного на ожидании открытий своих «новых материков». Чуточку разочаровывает, что здесь уже многое как в больших городах: многоэтажные дома, интенсивное движение. Выше и левее вокзала через мост проходит дорога, соединяющая части города, по которой с рёвом проносятся оранжевые грузовики «Магирус». Это Амуро-Якутская магистраль – АЯМ. Так вот она какая, Тында, один из пунктов назначения моей дороги, мой первый БАМ. А для кого-то это продолжение пути… Будем жить!
Юрий ВАСЮНЬКИН
Москва – Тында – Рязань – Пицунда – Москва,
май – июль 1980 года
P. S. Это был 1980 год, яркий, фееричный, запоминающийся…
На БАМе по заданию редакции удалось проехать по стройке от Тынды до Чары, побывать на прииске золотодобытчиков, пообщаться с геологами, немного побродить со старателями по тайге. Время скоротечно и замечательно, когда в молодости была причастность к созиданию какого-то большого проекта, к пульсирующей энергетике, где надо было вкалывать и выкладываться по полной, добиваясь трудовой победы! Незабываемо! Действительно, многие ехали туда «за туманом и за запахом тайги»! Конечно, было и желание хорошо заработать, но это так, как говорят компьютерщики, по умолчанию. Это было не главным, хотя и весьма существенным.
После окончания студенческой практики было возвращение в летнюю олимпийскую Москву – чистую, нарядную, праздничную. Большие красочные плакаты, бодрые песни из репродукторов, на московских спортплощадках и аренах ставились новые рекорды! Какая-то особая, приподнятая атмосфера царила на улицах, встречные люди светились улыбками!
Далее была поездка к родителям в родную Рязань, встречи с друзьями, а затем по студенческой путёвке, которой меня наградил факультет, снова под перестук вагонных колёс – уже на юг, в спортлагерь МГУ «Солнечный» под Пицундой.
Новые знакомства, тёплое Чёрное море, пляж, спартакиада, игры в КВН, песни под гитару, встречи рассветов…
И снова возвращение в столицу, на три года – за «гранит науки», экзамены, диплом и долгожданный выход в самостоятельную журналистику – в Жизнь!
Молодость не кончилась моя,
А шагнула в те мои края,
Где я был, где только начинал…
Снова магистраль, лесоповал,
Новых комбинатов корпуса
И любимой светлые глаза!
Даже в песнях новых нахожу
С юности знакомые мотивы…
Здравствуй, БАМ! Тобой я дорожу,
Как избранник той судьбы счастливой,
Что с тобой давно меня свела.
Для тебя искали нефть и газ,
Для тебя от каждого села
Тропочка геологов вилась
В глубь тайги, в тот сумрак моховой,
Что разрезан нашенским костром…
В МГУ, друзья, на Моховой
Разве мы мечтали не о том?
Молодость не кончилась моя –
Вновь шагнула в дальние края!
А. Богучаров