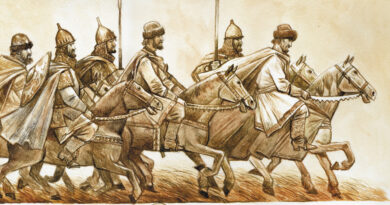К 140-ЛЕТИЮ Евгения Замятина
Нечто дремуче-расейское, сонное, корявое, вкусное едой – избыточной, пузо главное…
Раскрываются страницы «Уездного», шуршат они жизнями, проезжает на тарантасе купчиха, Барыба крошит зубами камни…
Язык повествования тяжёл.
Он лёгок – в нём сказ цветёт, переливаясь огнями, им рассыпаны самоцветы по страницам, открытым в вечность.
Заборы кривы, крадётся тень, нечто таинственное…
О! Нет – всё до предела конкретно, как еда у купчихи, к которой пристроится Барыба, – толстое к толстому.
Сложно поверить, что в этих людях спрятаны души; невероятно представить, что и над ними веет дух: ибо показано – как жить, если душевной деятельности никакой.
Сочно показано, смачно, будто ходишь по кривым этим провинциальным тропкам, мимо покосившихся заборов…
…В «Алатыре» Е. Замятина вполне себе симпатичный молодой человек пишет, захлёбываясь, под впечатлением знакомства с новым почтмейстером:
Наш новый господин почместер,
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех
И когда мне представлялся,
То мне рукопожал.
Я восхищался
И навек его уважал.
Великолепна эта наивная графоманская распахнутость молодого персонажа, слишком отличного от Барыбы, но втянутого уже болотом; а так хочется творчества: петь стихом, слагать прозу…
Мшистая среда противоречит.
Мшистая, где волосы прорастают вовнутрь; Замятин словно в колокол бил: так не должно быть, из этой среды мутно-болотистый путь один: в систему «Мы»…
Она и подтвердится – система эта, пропитанная и пронизанная жутью, рассчитанная на уничтожение всякой индивидуальности, а в идеале – и на мозг операция будет, всех перестроят, все прозрачны, и раздавить так легко.
«Мы-ы-ы…»
А слышится – «му-у-у…».
Ибо людей уже нет: организованные в стадо, теряют они самость, теряют творческие порывы и мычат себе, обречённые на убой…
Антиутопии воплощались, но частями: целостью настоящего их никто организовать не мог.
Может быть, потому что роман Замятина помешал…
…С портрета Кустодиева он смотрит слегка насмешливо: в прекрасном костюме джентльмен, работавший в Англии, получивший прекрасное техническое образование, а знавший русскую провинцию, как букварь, и построивший из неё, безнадёжной, такой страшный путь – в «Мы».
Технический прогресс, разорви его с нравственным, приводит в бездну.
Эмиграция Замятина вышла сложной, сложнее, кажется, многих: ему не хватало в том числе и дремучести, сквозь страх описаний которой прорастает и странная любовь к ней.
«Мы», сразу переведённые на несколько языков, повлияли на европейскую литературу, равно мысль; а Замятин так и остаётся сияющими полюсами: затхлости русской бездны и кошмара, в который может превратиться всеобщность, организованная в мычащее «Мы»…
2
Контекст антиутопии – реальность, не располагающая к мыслям о возможности совершенного социума.
«Мы» Замятина отличается меньшей безнадёжностью, чем роман «1984», вообще не имеющий просвета и, как показывает время, имевший в виду вовсе не СССР, но весь мир.
Тенденция концентрации всех мировых материальных ценностей в руках определённых немногочисленных групп людей вообще чревата, и «1984» предупреждает в том числе и об этом.
«Мы» под хрустальным куполом будущего кошмара тоже довольно страшный текст, но некоторые щели, сулящие световые изломы, всё же имеются, не исходя из бездны повествования, но имея в виду общий воздух ощущений.
Некоторые молнии просвета можно обнаружить и в «Прекрасном будущем мире» Хаксли: исследования проводятся, мысль играет.
Впрочем, хочется надеяться, что естественная тяга человека к свободе не позволит антиутопии осуществиться в реальности.
3
Отвратный шик «Уездного» затягивает или гипнотизирует – от колоритных языковых пластов до ощущения: так жить нельзя – что едва ли задумывал Замятин, живописуя расейское захолустье…
Интересна эта игра в графоманию: «Наш новый господин почместер, замечательный человек…» – образец провинциального виршеплётства; милейший Костя, придя домой, тотчас напечатлел…
Это уже «Алатырь», перекликающийся с «Уездным», где тяжёлый, камнеподобный Барыба всё дробит и дробит челюстями камни: ишь ты, едун!
В нём было своё обаяние – в захолустье этом, была в нём и звериная, оскалистая морда, не замечаемая большинством, погрязшим в кислом быту и огненном пьянстве; и был язык Евгения Замятина – колоритный, как уклад жизни со всеми его нюансами; тёплый, как свежий хлеб; язык ёмкий и вместительный – ровно такой, какой требовался, чтобы отобразить пласты – почти руды – той жизни.
А потом Замятин отстраивает «Мы» – скорее исследование, чем роман; скорее предупреждение, чем откровение – всякая попытка организовать утопию в реальности оборачивается антиподом оной утопии.
Стиль и колорит, своеобразие и ощущения, тонко переданные через речевые пласты, и не деться никуда истории: только сохранять бережно предложенные тексты.