К 205-летию И. С. Тургенева
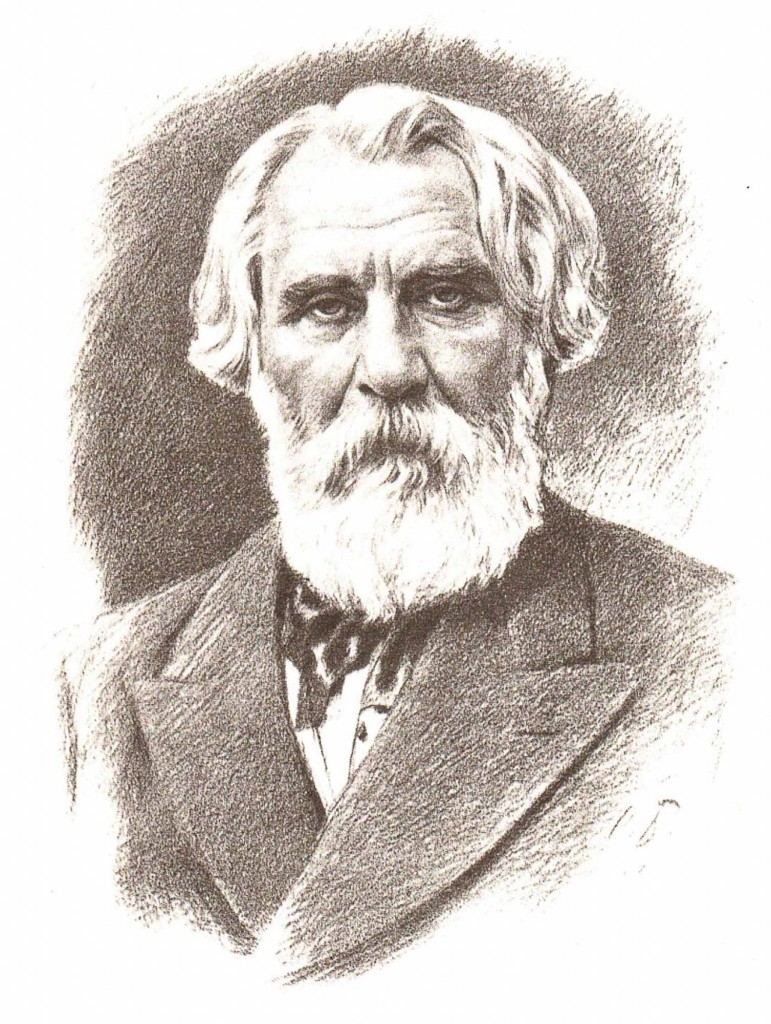
1
Барин должен быть избыточно сыт; барин не может жить иначе; депрессия, в которую он может впасть, будет связана с тонкими душевными движениями, недоступными тогдашним другим людям, крестьянам например.
Впрочем, понятие «депрессия» не использовалось: «сплин», «меланхолия» были в ходу…
Тургенев, случайно забредающий в лачугу, Тургенев, видящий живые мощи; крестьянская женщина, умирающая так, чтоб об этом был написан гениальный, меняющий сознание, бьющий по мозгам и всему психическому составу рассказ.
Нет, разумеется, она умирает просто потому, что умирает; она, иссохшая, превратившаяся в живые мощи, не знает и не догадывается, какая болезнь её ест, но, постепенно следуя вектору оной, ибо другие ей не предложены, она точно врастает в духовные пространства, закрытые для большинства, приоткрытые Тургеневу как великому писателю.
Она умирает.
Яснее делаются, увеличиваются её глаза.
Глаза есть зеркало души – формула, низведённая на уровень штампа, банальности и не делающаяся оттого менее правильной.
Можно вглядеться в глаза сербского патриарха Павла: они кажутся всевидящими, хоть он и не познал долгого, мучительного умирания.
Справедливости ради нужно добавить, что подобной силы глаза в жизни встречаются крайне редко; много их можно увидеть разве что на феноменальных холстах Эль Греко, живописавшего святых и Христа.
Женщина из рассказа умирает, иссыхает, видит Ваню, жениха своего, – он сияет, возможно, это не Ваня, это сам Христос, уже ждущий страдалицу.
Как редко можно встретить в жизни подтверждение феномена: страдание очищает!
В основном страдание делает человека мелочным, озлобленным и жаждущим избавиться от него; но тут, в рассказе, оно именно изымает, вымывает всё негодное из внутреннего состава женщины, оставляя лёгкую, лучащуюся суть, которой телесная болезнь не страшна.
Можно обрести веру, прочитав сердцем сердца подобный рассказ.
Можно её и потерять: если только страдание уводит в духовную высоту, какая же любовь могла создать систему жизни?
Ни то, ни другое не отменяет уникальной высоты тургеневского рассказа, раскрывающего такие бездны, с которыми большинство не соприкасается в мире.
2
Этот «Polonais» был – Дмитрий Рудин.
Финальная фраза, запоминающаяся наизусть, бередящая сознание разворачивающейся ретроспекцией жизни: воистину – не судите о ней, пока не грянул финальный выстрел.
Он грянет не для всех, но в романе Тургенева именно он является последней, завершающей характеристикой персонажа: яркого, в чём-то нерешительного, пылкого полемиста, истового спорщика…
Рудин – от руды как будто: и много мощной духовной руды заложено в персонаже, много – достаточно, чтобы погибнуть ярко…
Живописанная Тургеневым усадебная жизнь не имеет аналогов: не похожа на толстовскую, слишком круто заваренную, чрезмерно поэтическая, с непременным зарождением чувства – иногда взаимного, иногда нет.
Тургенев лучше других писал именно зарождение любви, первые волны необыкновенной поэзии, томительные и прекрасные сумерки, охотно предоставлявшие свой фон для людского счастья.
Впрочем, с ним всегда худо – в дальнейшем.
«Накануне» имеет некоторый метафизический пласт: человек вечно пребывает в этом состоянии, вечно ожидает грядущего, вечно…
Инсаров больше герой, чем неудачник; он – из когорты пламенеющих героев Тургенева, как Базаров, чей нигилизм вполне созвучен настроениям молодых людей многих времён.
Вопрос «Отцов и детей» не имеет ответа: всегда будет непонимание, даже при взаимной любви.
Базаров шумит: он уверен в победе… и своей, и прагматизма, он решителен, пока смерть не заглядывает в коридоры его жизни, чтобы вступить туда властно…
И снова – пейзажи усадьбы мерцают таинственно, и жизнь такая будет вечной, вечной.
Лаврецкий, имеющий многие черты самого Тургенева, воспитывающийся удалённо от отчего дома; тётка, жёсткая нравом; возвращение героя в Россию; кузина, её дочери…
Разговоры, разговоры.
Усадьбы, усадьбы…
Вероятно, главная сила Тургенева раскрывалась в космосе коротких рассказов: таких шедевров, как «Сияющие мощи» или «Муму», по которому лучше, чем по трудам историков и этнографов, можно воссоздать весь ад крепостного позорного права.
Романы Тургенева во многом избыточно злободневны; тем не менее и они будут читаться художественной историей тогдашней жизни, выполненной столь поэтическими красками, что порою не оторваться.
3
Инсаров умрёт.
Да.
Конечно.
Такой герой должен умереть, захлебнувшись невозможностью (на тот момент) свободы – для обожаемой Родины.
Сперва не понравившийся Елене, после проявивший в Царицыно незаурядную смелость, постепенно становящийся её возлюбленным – таким, за которым невозможно не последовать, ибо жив он только мечтою об освобождении Болгарии.
Елена сама – сильная, яркая, цельная, с долей светлой мечтательности.
Но ведь… Накануне…
Есть некое таинственное мерцание уже в названии тургеневского романа: мерцание метафизического свойства – человек вечно находится накануне чего-то важного, судьбоносного, основного – так он ощущает.
С зудом ожидания, надеждой на счастье, желанием подстегнуть время человек теряет ценность каждого мгновения, не верит в значение всякого момента жизни.
К тому же у спора, которым открывается роман, – между учёным и скульптором о месте человека в природе – не будет разрешения: пока не сможем раздвинуть собственное зрение настолько, чтобы картина мироздания открылась объёмно и стало ясно, насколько человек всего лишь звено в бесконечной цепи разнообразных существ.
Не венец творения.
Не царь природы.
Хотя и наиболее развитый вид на Земле.
Интересно перечитать «Накануне» именно с этой точки зрения: нелепости постоянного пребывания в недрах «накануне» – нелепости, мешающей жить…
…А Болгария в конце концов обретёт свободу – только Инсаров не увидит оного…
4
Идеальная грамотность и выразительность, к сожалению (а может быть, провиденциально – к счастью!), не всегда совпадают – и тяжелостопная мощь Льва Толстого призвана подчеркнуть то, что необходимо подчеркнуть, а взвихрённая, турбулентности подобная стилистика Достоевского именно такова, потому что проводил он сложнейшими лабиринтами (куда там известным историческим!) своих героев.
Думается, только Тургенев и Чехов смогли совместить градус абсолютной грамотности и высокой – высочайшей! – выразительности, давая образцы стилистики столь же нежные, сколь и насыщенные раствором глубины человеческой – и философской.
Осмысление жизни у Тургенева даётся и через образ, и через пейзаж, и… через осознание той запредельности, что сквозит за роскошью русского заката или восхода…
Череда романов как своеобразная энциклопедия тогдашней жизни – со всем её напряжением, срывами, проблемами и – срывами в проблемы, какие возможно и невозможно решить; галерея образов ярка и разнообразна: чувствования оных людей включают все краски психологического спектра, но избыточность злобы дня, пожалуй, играет двойственную роль: ту, когда иные части романов отмирают вместе с умиранием злобы.
Хотя… как знать – не возрос ли сегодняшний, мертвенно-чёрный прагматизм из тогдашнего нигилизма, носящего оттенок столь же воинственный, сколь и спекулятивный.
Тем не менее кажется, что именно в рассказах и повестях Тургенев выразил душу свою – и ту часть души народной, какая наиболее ему импонировала, – с большею силой, нежели в романах.
И здесь – сияние вершин очевидно: ибо рассказ «Живые мощи» – один из лучших в обширном пантеоне русского рассказа.
Кротость и всепринятие, умение за болезнью, разъедающей, уничтожающей плоть, увидеть радость выводят героиню крохотного рассказа в роскошный духовный дворец, где собраны лучшие женские персонажи русской литературы.
Поэзия языка, поэзия прозы пышным сиреневым кустом-шатром распускается в рассказе.
О! ряд их значителен, замечателен у Тургенева – большинство совмещают и языковое богатство, и тонкое строение образа, а разнообразие последних гарантирует их вечное бытование в недрах литературы.
Тургенев, широко давая образцы непопулярного жанра стихотворения в прозе, точно раскрывал новые страницы языковых возможностей, и жаль, что жанр не получил толком дальнейшего развития.
Юбилей классика всегда несёт отпечаток формальности, имеет налёт банального глянца – тем не менее в случае с Иваном Сергеевичем Тургеневым жизнь оказывается сильнее, ибо благоуханный аромат его прозы не теряет силы и в наши дни.
5
Чертопханов и Недопюскин столь же непохожи друг на друга, как Бювар и Пекюше; и нет людей ближе, чем они же. Задачи, которые ставил перед собой Тургенев, были схожи с теми, что возвышались перед Флобером, общее было и в архитектуре их языка.
«Записки охотника» добавили цвета к русской словесной палитре, особенно оттенков лилового и фиолетового.
В закрученные прагматизмом времена едва ли кто-нибудь заплачет над «Муму», однако восстановить позорную картину крепостного права по небольшому рассказу можно вполне отчётливо.
Роса на траве, дрожащая паутинка между ветвей: тонкость природы становится тонкостью словесной вязи, а метафизические верхотуры «Живых мощей» слишком недоступны для мозга.
У кого ныне достанет души прочувствовать бездну рассказа?
Суммарный свод «Записок охотника» включает столько нюансов русской жизни, что будто развёрнут художественный каталог оттенков природы, нравов, характеров, закатов, ночного костра, страхов, разговоров: бесконечного былого космоса…
6
Утро, вырезанное из тумана и сырости, утро сырое, нивы печальные…
Звучит густой, грустный знаменитый романс, звучит, продолжая по-прежнему бередить некоторые души, хотя уже и не столь многие; звучит, отзываясь естественным узнаванием: схожие ощущения знакомы…
Тургенев был хорошим поэтом…
Он писал стихи тревожные и наполненные субстанцией тайны: словно жизнь ему была непонятна настолько, что оставалось только дивиться, прислушиваясь к сложным вибрациям окрестного мира и тонким – собственного психического состава:
Брожу над озером… туманны
Вершины круглые холмов,
Темнеет лес, и звучно-странны
Ночные клики рыбаков.
Полна прозрачной, ровной тенью
Небес немая глубина…
И дышит холодом и ленью
Полузаснувшая волна.
Литые, точно сделанные строки; ясно и чётко выписанные картины.
Он писал в основном о природе, переживая её как гигантскую панораму, в которую вовлечён человек – малой единицей, правда, способной чувствовать, отображать…
Он писал о природе грозовой, и спокойной, и всегда отражающейся в душе; он тонко чувствовал – автор знаменитых романов и рассказов, – достаточно тонко для того, чтобы писать хорошие стихи…
Поэтическое наследие его невелико, но оно изящно и уверенно дополняет огромное прозаическое…
Плюс вновь и вновь звучит романс: «Утро туманное…»
7
Сносящий всё бурлящий поток – и жизни, и языка: характерный признак космоса Достоевского.
И – противоположный космос: упорядоченно-поэтичный, с подчёркнутым вниманием к каждому слову…
Полюс Тургенева.
Как они могли общаться в жизни?
Впрочем, некогда изданная в ныне памятном только библиофилам издательстве Academia книга об их взаимоотношениях носила подзаголовок «История одной вражды».
Дело, конечно, не в характере личных узлов, а в том, что Достоевский и Тургенев представляли два типа отношения к реальности: вместить всё – и выделить одно ради сияния общего…
Каждый был силён именно на своём поле, но наличие двух, несопоставимых, обогатило мировую литературу настолько, что сложно переоценить…
8
Лаврецкий постарел – как, впрочем, и Тургенев, давший ему столько черт.
Он постарел благородно, по-дворянски, ибо мир дворянского гнезда есть единица восприятия Тургеневым жизни: лучшая единица.
В романе произойдёт много коллизий, но все практически будут идти на фоне дворянского пейзажа, и то, что уходит он, стирается, наполняет такой горечью, которая представляет феномен той жизни пронизанным светлой гармонией грусти…
Лаврецкий, воспитываемый жестокой тётей, удалённо от своего дома, сын отца-англофила и матери, умершей рано…
…Вот он уже в Москве; в опере, в одной из лож, он замечает прекрасную Варвару Павловну, вот он уже женат, молодожёны едут в Париж…
Шелест атласа, бархатные отливы…
Лаврецкий, воспитанный жестокой женщиной, как Тургенев – крутой и жестокой матерью, непременно постареет.
Он вернётся в Россию, навестит кузину, живущую с двумя дочерьми; начнутся любовные коллизии…
Гнездо: белый родовой дом с колоннами; лес, таинственно темнеющий сзади.
Или пестреющий, если стяги подняла роскошная, византийская осень.
…Но у Тургенева сложно найти исторические аллюзии; и метафизика его очень земного толка: жизнь как она есть, в тех формах, какие ему были хорошо известны.
Плюс гармония языка и уже упомянутой грусти.
В общем, Лаврецкий постарел и, вспоминая былое, едва ли считает свою жизнь неудачей; но и причины для радости сложно найти.
А то, что все дворянские гнёзда будут разорены, – пока невозможно представить.
9
Редко получается писать абсолютно грамотно и при этом предельно выразительно; это «редко» мощно проявляется у Тургенева, чей язык гармоничен и кристально ясен, чёток, красив…
Это же заметно и в драматургии, в своеобразном мире, создававшемся им для театрального воплощения реальности, в «Месяце в деревне» прежде всего.
Отношения множатся: грани магического кристалла жизни, вмещённого в драматургическое повествование, сверкают, и получается… не треугольник, нет – четырёхугольник любовный, трактующий сложность человеческих отношений всё тем же предельно ясным языком высокой выразительности.
Необыкновенная свежесть исходит от пьесы, словно нестареющей, какие бы изменения время ни вносило в человеческий антураж, во взаимоотношения людей, в восприятие жизни…
Жизнь всегда усложняется: наша слишком непохожа на ту, что вели персонажи Тургенева почти двести лет назад.
И всё равно – мы слышим их, мы находим определённые отголоски их реальности в своей, перегруженной скоростями и технологиями.
Комедия «Нахлебник» – с точным механизмом действия, с репликами, вычерченными до последней остроты и чёткости; «Провинциалка», «Завтрак у предводителя»…
Театр Тургенева богато характеризует человека, открывая такие бездны, которые порой и не подразумеваешь за породой людской…
10
Сложно определить стихотворение в прозе как жанр; тем не менее, перечитывая Тургенева, ощущаешь именно жанровую отчётливость – не говоря о необыкновенной тонкости и чрезвычайной поэтичности: сама субстанция поэзии разлита в кратких, таких знаменитых – когда-то по крайней мере – текстах.
Гармония и поэзия дышат в них: сколь монументально представлен векам «Русский язык» – о! как будто вся невероятная сложность языкового устройства просвечена произведением – от малыша, чья нейронная сеть только даёт команду расшифровать первые коды слов, до старика, собирающего в единое целое свои воспоминания…
Мы рождаемся в язык – не только в физическое бытование.
Метафизически звучащая «Истина и правда», не менее метафизическая «Куропатка»…
Много осмысления жизни в кратких тургеневских перлах: много и приятия её – какой дана, пусть мучает болезнями и отсутствием ответов на многие вопросы.
…На думу – тяжёлую думу – ответит исполин дуб лёгким шорохом в сплошной листве…
Шкала тонкости восприятия мира не разработана в психологии; возможно, непонятно пока, как её разрабатывать; но стихотворения в прозе Тургенева именно дают наглядное представление о том, насколько волшебно-тонким может быть восприятие жизни.
И поэтичным, конечно.
Александр БАЛТИН




