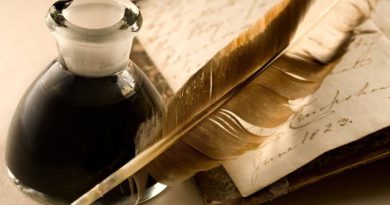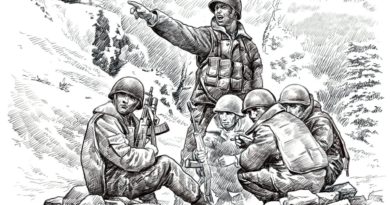К вопросу о пушкинском феномене
шифрования в сказке
ОТРЫВКИ ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ КНИГИ ИРИНЫ ОБУХОВОЙ «ПУШКИН. МНОГОТОЧИЕ»
Обращаясь к молодому читателю, мне хотелось бы отметить, что наш гений – такой великий и известный Александр Сергеевич – только кажется абсолютно изученным… На самом деле страницы золотого фолианта «Пушкин» ещё хочется перелистывать, комета «Пушкин» всё ещё на нашем небосводе, от неё всё ещё идёт свет…
Предложенная в книге интерпретация версий прочтения стихотворения, сказки, повести, рисунка, отношения к религии великого Александра Пушкина не является конечной и лишь подчёркивает главную его характеристику, данную В. Ф. Одоевским: «Солнце русской поэзии».
Пушкинский «Золотой петушок» считается сатирической, но всё ещё загадочной сказкой. Ключом к ней можно считать антиподы «слово – число», и это оказалось нетрудно доказать. Пушкин общался с представителями аристократии, военными и высокообразованными людьми. В Крыму в 1820 году он с увлечением и интересом делил дни с семьёй героя войны 1812 года генерала Раевского. Восхищавшийся великим русским учёным и естествоиспытателем Михаилом Ломоносовым, Александр Сергеевич со схожими чувствами сдружился с его правнучкой, Марией Раевской, дочерью генерала.
Можно только представить, как двое юных лингвистов – семнадцатилетняя Мария Раевская, знавшая уже несколько языков, и гениальный Александр Пушкин – горячо спорили и смеялись на французском и других языках, делились знаниями по истории, языкознанию, литературе и музыке. В 1826 году он пообещал ей – уже Марии Волконской – приехать в Нерчинск после поездки в Оренбург, перемахнув через Уральские горы, – таким образом выразить свою поддержку декабристам. Но в Оренбурге произошло очень важное событие. Радушно встретивший А. С. Пушкина в 1833 году губернатор В. А. Перовский, который был другом императора Николая Первого, обладал редким качеством – благодарить подчинённых наградами, которые он не просил, а требовал от царя. Этот губернатор понимал важность одобрения, которое вдохновляет человека, укрепляет дух воина. Александр Сергеевич в 1833 году воспринял это качество графа очень близко. То, как важно обращаться в первую очередь к Богу и Слову Божьему, ему было рассказано Московским митрополитом святителем Филаретом (Дроздовым), по-отечески, с добротой о нём заботившимся.
Быть по-царски великодушным и щедрым – это действовать в соответствии с продуманной веками царской атрибутикой. В левой руке царь обязан держать символ Царства Небесного и благодарности – шар-державу и на деле держать в руках управление войском или страной. В правой – наготове у царей символ силы и власти – скипетр-жезл. И как будто случайно в пушкинской сказке, написанной в следующем, 1834 году, у главного героя Царя Дадона (с др.-славянского – «неуклюжий, нескладный») – только жезл, скипетр, символ наказания. Автор наделяет Дадона качествами самонадеянного и неграмотного военачальника с одним скипетром (посохом) в руках – ни корона, ни держава в сказке не упомянуты. И, не удостоверившись в силе противника, такой царь обрекает войско, семью и самого себя на смерть. Так погибали государства – из-за отсутствия знания и преданности давним идеалам, святым традициям, из-за излишней доверчивости и обилия соглядатаев рядом.
Пушкин здесь показал само явление – неграмотное, некорректное военное руководство, опасное для империи. Воинский дух казаков граф Перовский повышал царскими поощрениями, потому что после этого укреплялся авторитет командира.
Не случайно наше русское «спасиБо(г)» придумано мудрым образом, ведь только в нашем языке существует этот способ ежедневного многократного упоминания благодарения. В русском «авось» – надежда и вера Слову, сама психология нашего неторопливого спасения, и это – противопоставление числам и смыслам. Пушкинский намёк на эти слова-антиподы («слово – число»), пронизывающие сказку-сатиру, подтвердил поэт Серебряного века Николай Гумилёв.
Происходило это в 1918 году в Лондоне, во время большого выступления поэта перед английской аудиторией, которая слушала Гумилёва так увлечённо, что даже не услышала налёта немецких бомбардировщиков. Удивлённый происходящим, английский писатель Гилберт Честертон был в замешательстве: «Какой-то русский в военной форме, называющий себя поэтом, выступает на французском уже три часа подряд перед англичанами, и почему-то никто и ничто не может остановить его. Предлагает создать мировое правительство из поэтов или писателей – меня он делегировал от Англии, Анатоля Франса – от Франции, себя – от России, Д’Аннунцио – от Италии. Считает, писатели никогда не допустят ошибок и всегда смогут найти общий язык между собой. Что ж, эти русские наделены всеми видами талантов, кроме одного – здравого смысла!»
Преданный монархист, Николай Степанович Гумилёв, вернувшись позже на родину и узнав о казни императорской семьи, смог отреагировать на события словами: «Никогда им этого не прощу». А в 1919 году он пишет стихотворение «Слово». В нём он и даёт ответ на тот самый «смысл» от англичанина Честертона.
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передаёт.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро, и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог.
Мы ему поставили приделом
Скудные пределы естества.
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.
Здесь Гумилёв «Смысл» противопоставляет «Слову», наделяя его возможностями летать в вышине и останавливать солнце. Показывает, что приверженцы смысла/расчёта/числа/монет – это служители низменной варварской идеологии, а ставящие во главу угла слово/дух/веру – последователи высокого христианского учения, люди намного более дальновидные. Здесь старец, чертящий тростью на песке, – тот же Дадон, полусидя-полулёжа царствующий, высчитывает победу над недругами.
Стоит заметить, что «поставили прИделом», т. е. сравнили с архитектурной пристройкой для алтарей (на случай более широких литургий) смысл и число, что пытается в новом времени сделать Человек, Гумилёв считает опасным. Ведь алтарь – место приношения жертвы и бескорыстия. Низменные порывы инстинктов Гумилёв называет лимитом, «пределами», предупреждает от падения в пропасть низменных животных страстей. Как подтверждает история, выигрывают слово и дух, ими пронизана суть всего человеческого, а не бездушным числом и цифрой, от которых и «дурно пахнет», и звенит тридцатью серебрениками. Этими словами Гумилёв подтверждает предположение о ключе к разгадке сказки Пушкина – своим обманчивым выбором смысла вместо слова, веры Царь Дадон приходит не к созиданию, а к разрушению всех и вся.
Оба поэта – Пушкин в 1834 году, а Гумилёв в 1919-м – обратили внимание потомков на опасность обнуления и стерильности памяти от вечных идеалов – подвига героев, правила строить жизнь на добрых, проверенных традициях родной страны. Своё обобщение, видение разницы оба литератора сделали на основе их высокого интеллекта и образованности, знания истории и литературы и особого, гениального склада ума, умения видеть на годы и десятилетия вперёд.
Сохраняя пушкинское наследие, литераторы празднуют победу пушкинского русского языка над языком иноагентов. Поэт был обеспокоен судьбой своей богатой интеллектуальным потенциалом страны, стремился доказать, что спасение России – в созидании, объединении, нашей благо-преданности ей. И этот тезис воспевания Пушкиным свободы вместе с обретением, по святителю Филарету, подчинённости нравственным истинам, он раскрывает в своём творчестве от Царского Села 1815 года до Петербурга 1837 года, сквозь Гурзуф и Болдино, Оренбург и Москву. Уникальность крупнейшей личности мировой литературы XIX века ещё предстоит открывать – по его рисункам, антропологии, нераспечатанным его архивам. Многоточие.