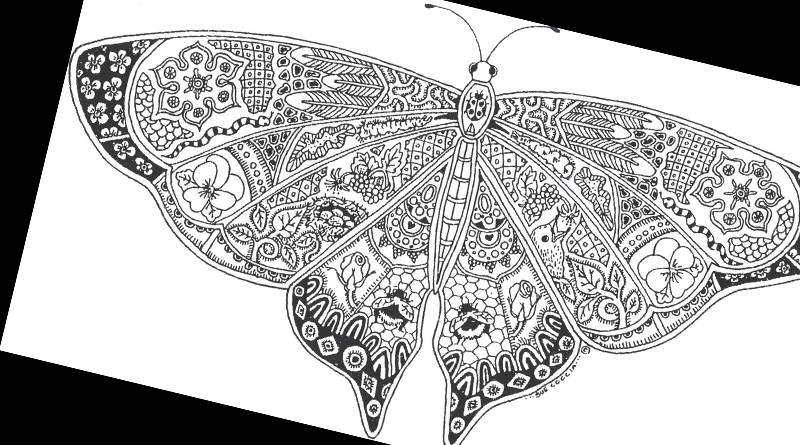Анатолий Новиков. Рассказы.
ОСКОРБИТЕЛЬ БАБОЧКИ
Ему было десять лет, когда он, стоя по пояс в медовых овсах и слушая рабочий ровный гул поля, оттолкнул налетевшую на него бабочку. Мгновение та растерянно и выжидающе повисела над ним, потом скользнула вверх и исчезла. С того момента он ни разу не оскорбил ближнего, не растоптал сапогом беспомощную букашку, не смахнул щепотки золотой пыльцы с цветка – словно бы повинился без вины.
Накричались мы в детстве, набегались, отталкиваясь от земли изо всех своих бездумных сил. Сколько озер и рек расплескали упругими, всё вытесняющими телами! Сколько травы вытоптали узкими победными ступнями. Платонов бежал вместе и – далеко от нас. Он плыл рядом с нами, свободно скользя от волны к волне, и сам походил на речную струю.
Он вздорил с ветром и всегда двигался против ветра. Продолжая спор, ложился, в чем был одет, на дорогу и сдувал первый попавшийся камешек с места, показывая, что он, Платонов, ограниченный ростом и силой, может сдвинуть дыханием гору, в то время как ветер, обладая огромным пространством и мощью, не в силах иной раз переместить по земле спичечный коробок.
Он состязался с деревом, перерастая первую метку своего роста на его коре и за полгода стремительно преодолевая расстояние, какое дерево набирает годами. Отыскивая причины медлительности, Платонов бережно выкапывал, разгребая грязными ногтями дерн, отростки корней с горькими каплями на изломе.
Он соревновался с водой, и здесь тоже всё было ему по силам. Ведь река – в зеркальных осколках и лунных сполохах, с плавным течением на глубине и с гибким на перекатах и стремнинах – от источника до последнего глотка состояла из соединения двух простых веществ, а он, Платонов, соединял в себе тысячи земных, небесных и водных.
Он спорил с землей и, встав на руки, поднимал на ладонях выщербленный космическими сквозняками и испарениями земной шар так же легко, как спелое яблоко из густой травы.
Платонов-отрок очаровывался тем, с чем спорил, и не принимал то, что любил. Но делал это как-то незаметно для окружающих. Глядя на его лицо, выгоревшие прямые волосы, ощущая родниковый взгляд, никто не заподозрил бунтаря в этом открывателе старых истин.
Мы жили тогда в Казахстане и каждое лето ездили в горы – в пионерский лагерь.
Однажды я сидел в кривом ущелье Таласского хребта на берегу реки. В оглушительном грохоте и мельчайших брызгах водопада на расстоянии броска камня повис розовый нимб радуги. Сквозь незамкнутое кольцо низвергалась ледниковая, отторгнувшая солнечное тепло вода, и казалось, вот-вот мелькнет в скрученных струях и рассыплется, ударившись о гранитный угол, череп доисторического животного – милая легкомысленная головка динозавра или челюсть мамонта с неопрятной бородой. Мгновение – и низкий кустарник принимал свое первородное обличье. Внезапно потемнело, и меня стиснул со всех сторон густой дурманящий аромат хвощей, папоротников.
Несколько рубиново-красных и серых камешков скатилось под ноги. Я посмотрел вверх. Метрах в двадцати надо мной, по-паучьи легко переставляя ноги и вжимаясь ими в невидимые трещины, спускался человек. Отвесная стена, отполированная тысячелетиями выходившей из русла водой, поросла кое-где колючими ползучими растениями, названия которых я не знал. Выше размашистого горного излома и начала водосбора сносило попутным ветром громадного грифа – пожирателя падали. Птица летела нехотя, словно раздумывая, не повернуть ли вспять, и вскоре скрылась за скалами.
Месяц назад сорвался со скалы парень из соседнего лагеря, и я со страхом и интересом смотрел, как тихоня Платонов, нарушая официальный запрет, повторял смертельное упражнение. Пару раз я взбирался по такой отвесной стене вместе с друзьями, но нас страховали, и стена была много положе. И всё равно после каждого восхождения и спуска под ногтями появлялись дуги кровоподтеков.
Видимо, Платонов поднялся в гору с другой стороны и начал спуск с излома. Я мысленно проделал весь его путь от вершины до того места, где он сейчас ненадежно прицепился, и мне пришлось сунуть пальцы в ледяную воду – почувствовал знакомую ноющую боль.
Платонов упал, когда до ровной площадки оставалось расстояние в два его роста, и, мгновенно поднявшись, заглядывался во все стороны. Из-под его брюк на ноге показалась кровь – он, видимо, крепко содрал кожу на коленях.
– Почти никакого риска, – он торопливо старался стереть кровь с ботинка,– и никто не видел.
– Кроме меня, – уточнил я. – Если я – никто, тогда ты спятил, потому что разговариваешь сам с собой.
– Нет, нет, – закричал он, но водопадный грохот смял и отбросил этот протестующий голос, как заглушал прежде все его слова, мы только догадывались о смысле их, не слыша друг друга. – Почти никакого риска!
– Как это? – Меня бесила его беспечность.
– Я знаю способ, – сказал он.
– Давай, выкладывай, – поторопил я, уверенный, что он выкручивается.
Платонов потащил меня за уступ, ниже к кустарнику – здесь было намного тише.
– Смотри! – выкрикнул он, пригибаясь к скользкому базальтовому валуну и пританцовывая на согнутых ногах. – Надо слиться с камнями, особенно с каждым последующим камнем на твоем пути, а потом подводить к центру тяжести плечи, голову, грудь, подтягивать ноги. Надо прижаться к камню с силой ящерицы.
Я засмеялся.
– Платоша, не вправляй мозги. Пока ты качался там, я тут вибрировал, а теперь…
– Ты поверь,– умоляюще произнес он. – Главное – знать, где у тебя центр тяжести, куда он переместился с последующим движением. Вот если потеряешься – легко загреметь.
– Ладно, никому не скажу. И ты помолчи.
Платонов пошарил в карманах мятой рубашки, извлек сплющенный спичечный коробок, протянул две спички.
– Возьми. Отломи у одной головку. Спрячь обе за спиной. Меняй как хочешь. Я найду короткую. Это мой секрет, ты можешь пользоваться им.
Мне казалось, что он снова смеется, но я сделал, как он просил.
– Короткая! – сказал Платонов, вытаскивая спичку.
Я сжал пальцы изо всех сил, но он вытащил обломанную.
– Короткая! – крикнул он, вытаскивая обломанную спичку второй раз.
– Короткая! – механически объявил он, когда в седьмой раз протянул руку.
Суеверный холодок пробежал у меня по спине.
– Расскажи, – попросил я его с той легкой снисходительностью и иронией, с какой поощряют дурака сделать неприличность.
– Проще пареной репы, – сказал он. – Короткую почти всегда зажимают ближе к телу. Между телом и длинной спичкой будет короткая. За редким исключением.
– Ну-ну, – сказал я, потому что надо было что-то сказать.
– Я проверял! – вспыхнул Платонов, будто его обвинили в лжесвидетельстве. – Не один раз и на разных людях. Люди всегда такие: самое неустойчивое стараются спрятать поглубже, ближе к середке.
Я смотрел на него во все глаза.
– Треснувшую вазу ставят ближе к центру стола, раненую руку прижимают к груди. Человеку свойственно всё оберегать, ему спокойно, когда всё около него устойчиво и определенно.
Я повернулся и стал выбираться из ущелья, из Платонова с его сомнительным волшебством, из очумевшего водопада.
– Короткая и надломленная создает ощущение неую-ю-юта, – сложив ладони рупором, крикнул он мне вдогонку.
С той встречи – стал я замечать – дня не проходило, чтобы он не открыл нам оглушительной истины. Оторопь брала, откуда он умудрялся вытаскивать такое на свет белый. Ну да мы не очень-то прислушивались к его послушническому бормотанию и череде откровений дивились только поначалу.
Отрочество прошло скоро. Мы уже не бегали, как прежде, – выросли. У всех появилась жизненная цель, ради которой выверялся каждый сделанный шаг. Мы учились рассчитывать. И хотя ненужных поступков стало вроде меньше, взрослая суета заменила в нас пылкость и беспечность молодости. Один Платонов остался прежним: выбрав совсем уже немодную профессию, поступил учиться в ветеринарный институт. «О господи!» – сказали мы хором, узнав об этом.
Тихой пыльной улицей пригородного поселка мы добирались однажды до летней избы, где снимал он комнату у глухонемой хозяйки. Платонов обрадовался нам безмерно, кричал что-то хозяйке об обеде и, не переставая счастливо улыбаться, ходил за всеми с глупым лицом. Выверенные временем детали крестьянского быта в его комнате были нарушены рассыпавшимися кипами учебников, рулонами бумаг, схемами и таблицами на стенах. Только запах был устойчив и знаком этому жилищу – ветеринарной амбулатории, испеченного хлеба, топленого молока. Платонов забылся и битый час рассказывал нам о таинственной болезни скота – бруцеллезе.
Выпив чаю, мы пошли в поле. Чистый воздух, тихий свет, остывающее тепло потесненного вечером солнца над синей горой, белые облака – всё это стало уже непривычным для нас, горожан.
– Отчего случаются шаровые молнии? – внезапно спросил Платонов.
Я пожал плечами. Подобные вопросы интересовали нас классе в шестом, и, не получив ответа, мы забывали о них.
– Иногда думаю об этом, – продолжал он негромко. – И хотя мне не доводилось еще видеть молнию-шар, мне кажется, я понял тайну ее рождения.
– Объясни, пожалуйста, – сказал я, как девять лет назад в горах.
– Понимаешь, земля – это статор. Огромный заданный статор. Вокруг нее – бесконечные электрические поля с посевами силовых линий…
Он говорил долго, но я сразу перестал его слушать – стало неинтересно. Гулко кричала в высоком клевере какая-то птица.
Мы сделали тогда очень хитро: оставили Платонова, бросили одного на дороге, и он не догадывался об этом. Мы шли рядом и время от времени кивали, поддакивали ему, но он уже шел с глухонемыми. С таким же успехом тишайший Платонов мог рассказывать своей хозяйке.
Через неделю завернула за нами машина. Шел уже почти осенний, нескончаемый дождь. Широко распахнутая дверь скрипнула отрешенно, в светлом проеме неподвижно застыла человеческая фигура. Он махнул нам несколько раз, но лица его мы не различали. Потом он закрыл дверь. Несколько мгновений перед глазами стояли очертания освещенных предметов, потом всё погрузилось в темноту. Прощай, Платонов, исцелитель общественного стада!
– Одно я знаю, – сказал кто-то из середины подскакивавшего на рытвинах кузова. – Наш Платоша никогда не пробьется дальше, чем ему отпущено! Такие люди пишут диссертации, которые не защищают, изобретают вакцины и лекарства, которые пробуют только на себе, и умирают заведующими ветеринарных пунктов.
Ему никто не ответил. Слова отнесло встречным потоком воздуха далеко назад, и они растаяли за бортом, в полях. Прокололись звезды в облачном небе.
Прошли еще годы и еще. Случился день изнурительной, на одном дыхании, работы. Я присел отдохнуть у моста, который мы возводили уже несколько недель, и наблюдал за тем, как тяжелая его тень отодвигается прочь от солнца. Рабочие, расстелив на траве брезентовую куртку, свалили в общую кучу еду, захваченную из дому: вяленую рыбу, почерствевший к полудню хлеб, густой, в пробоинах сыр и рыжие помидоры.
Я – инженер-практик, уже порядком подлинявший изнутри и снаружи, потертый бесконечными договорами и заботами. Может быть, поэтому, когда я нахожусь не в своей бригаде, а в окружении прежних моих практичных друзей-доброжелателей, мне не по себе? Что скрывать? И обогнавших боюсь. Боюсь летучего слова, очередной усмешки по поводу или без. На память приходят слова, слышанные от старика армянина: «Не бойся человека, прочитавшего все книги. Не бойся человека, не прочитавшего ни одной книги. Бойся человека, прочитавшего одну книгу, ибо он одержим бесом нравоучений». Мне кажется, это о них – друзьях везучих. И обо мне?
Железобетонное, нагретое солнцем тело моста освобожденно провисало над речной – этим летом сухой – долиной. Рабочие ели и смеялись очередному анекдоту. Я взглянул на разостланную передо мной газету и случайно прочитал: умер Платонов…
Он остался верен себе и ушел из жизни так же тихо, как рос и жил. О его смерти прошелестел на ветру клочок районной, бог весть как попавшей сюда, газеты. На дне оврага уныло бил перепел, однообразно стригли кузнечики да тонко посвистывала вдали маневровая секция.
Я снова прочитал газетное сообщение о смерти Платонова, стараясь угадать причины, но текст некролога был нейтрален и тесен, дежурные фразы не оставляли места для догадок, раздумий – умер, что еще надо?
Позднее я узнал, что его доконал бруцеллез, а лечиться он не находил времени: диссертация осталась незавершенной.
– Я знаю секрет популярности Дюма-отца! – сказал мне однажды Платонов, когда мы готовились к вступительным экзаменам и сидели в тени деревянного дома. Соседский мальчик, словно целлулоидная игрушка, выскакивал из широкой бочки с заматеревшей зеленой водой и вновь проваливался с головой. Солнце отражалось в густой воде. Казалось, мальчик окунается в расплавленную темно-зеленую медь.
– В чем же секрет? – спросил я, отшвырнув надоевший учебник. – Потешь открытием.
– У него не было положительных героев! – торжественно произнес он.
– А этот, как его, – сказал я, – гражданин д’Артаньян? Ведь он отец многих современных героев.
– Он предатель! – Платонов произнес это совсем неслышно, только по его губам я догадался. – Франция почти в состоянии войны с Англией, а он сражается за островную королеву. Франция гибнет от раздора, окружена врагами, а д’Артаньян со своей бражкой помогает государственному разладу.
– Эх ты, Платоша!..
– Эй! – крикнул из бочки мальчик, которому надоело просто стоять и не понимать разговора. – Посчитайте, до скольких я продержусь под водой!
Платонов согласно кивнул и поднял руку:
– Три-четыре, начали!
Он добросовестно и методично отсчитывал мгновения, забыв обо мне и д’Артаньяне.
– Платонов! – сказал я вдруг. – Трудно тебе придется на белом свете, Платонов!
Не переставая считать, он внимательно посмотрел на меня, и я заметил его кроткую и насмешливую улыбку.
ТРЁХРУКИЙ

Конного завода кузнец Михаил Густотелов к женщинам был ласков, но крут.
– Случится накоротке любовь, – делился с товарищами мастер высшего разряда, – предпочту королеву.
Конюхи и наездники постарше скалили зубы, хмыкали. В быту у коваля всё топорщилось против воззрений и жажд. То ли королевы, даже плохонькие, перевелись, то ли прописались неблизко, но женщин высоких кровей кузнецу за полвека не досталось. Однако мужик на судьбу не жаловался, верил в счастливую звезду и брал женщин, которые поближе.
Три раза затевал свадьбы Густотелов и, по мнению жителей конного поселка № 9, не совсем удачно.
Первая, Нюрелла, через год настроилась на передовика городского тира Сулеймана-полуоглы, вращавшегося в картежных кругах под кодом Дундук, и откочевала к зюйд-зюйд-весту. Вторая жена, Евдокия Макашина, запамятовав о муже и кулинарно-интимных обязанностях, вечерами прибивалась к парашютной вышке в парке имени Культотдела. Забравшись выше смога, она опоясывалась лямками и бросалась на планету. В один из соскоков отважная допризывница неловко села на копчик – ее отправили в здравницу. Густотелов, полгода не получая от супруги известий, обеспокоился и посетил Крымский полуостров. Выяснилось, что Евдокия жила с кружком местных дельтапланеристов.
– Лошаки твои вот где! – Дуня резко кинула ладонь от кадыка. – Извини, Густотелов, не жена я тебе, если к поднебесью не прикипишь!
– Очнись от игрищ, Евдокия! – поразился кузнец. – Ты законом со мной поставлена жить, а не с этим рукокрылым! Метнемся в заоблачное – кто навоз на фермах топтать будет?
– А не мое дело! – отвечала Евдокия решительно, приторочив себя к летательному аппарату. Через минуту она навек растаяла для Михаила в голубой дымке виноградно-цементной долины, прокаркав на вираже:
Чуть больше солнца, –
стал бы жаркой пылью.
Чуть больше неба,– я бы в нем исчез…
– Антона Мачадова стихи! – остался на слуху кузнеца крик летуньи. – Прощай, валенок конзаводский!
С третьей женой природа наконец снизошла к Густотелову. Веруня Каляева была из родной деревни. В девичий медонос Густотелов отторгнул ее по причине чрезвычайной сопливости и смешливости. Теперь, к сорока годам, женщина подсохла, посуровела, около нее кружили два мальчика и девочка.
Тяжела статями и лицом светла Вера Густотелова-Каляева, а всё ж омедлилась в движении к венцу женского расцвета. Утром припозднится с мягкого ложа, красивые глаза от кухни с горшками отведет. Невелика, конечно, слабость – поленение, но в кузнеце копилась муть. Случалось, заспешит, прикрикнет – да после трех горнистов, которые ей уже по груди отросли, Веруня и ухом не вела на возвышенный голос коваля.
Однако семейное смятение не отразилось на производстве – ни одна лошадь у коваля не захромала.
– Ковать, Михаил Иваныч, державное железо – не перековать! – ранними зорями ворковал Иона Уздяев, наваливаясь брюхом на стратегический штакетник огорода.
– Будь спок! – заботливо откликался коваль. – Оправдаю доверие!
– Скуешь весь феррум – куда прыть трудовую притулишь? – допытывался сосед и тут же вербовал: – Ходи ко мне в помощники – завалим рынок огурцом!
– От огурца зубы крепнут, да разум слабеет! – резал Густотелов. – Вон ты какой белозубый!
Оба мужика, взбодренные антагонистической перекличкой, разбегались по делам.
Гражданин Уздяев был крепким, пушистым с лица и с некоторой гордыней в шаге. В свободное от овоща время он копил валдайские колокольчики для услады отработанной души. В конпоселке, правда, не ведали, где Иона захватил к сорока пяти годам пенсию и с каких подвигов так заманчиво приустал. Возник гражданин в селе внезапно, но надежно – сошелся с самой благосостоятельной вдовой района Зинаидой Указовой. На дознания любознательного деревенского контингента о муже счастливая женщина, обильная телом, скотом и домом, закатывала глаза и сознавалась:
– Совсем он меня законопатил!
Уразуметь ее было трудно. Ранее вдова так же жаловалась на крупный рогатый скот, или на кабана, или на обширный огород.
А Иона Уздяев лично заявил в беседе с директором конезавода Александром Васильевичем Чеглоком:
– Сослан на пенсию из-за нервных перегрузок в возглавляемой мною контрольно-наблюдательной организации. Функция у меня была злее, чем в «горячих» цехах страны. Хочу пожить на дачной местности, отойти от суеты и государственных видений.
Прописали его в конпоселке под именем Функция. Поначалу новик этими функциями селянина спутал, но скоро ситуация разгладилась. Через месяц Иона предложил услуги совхозу, для начала назначив себя народным контролером. В те же сроки общественник воздвиг в огороде три небывалые по объему капитальные оранжереи.
И ничего бы – на селе до сих пор совестятся долгого личного досуга.
Но Уздяев добрался в парниковом раже и до коннозаводских недр.
– Не знаю, из каких мест Иона выпал, – делился Густотелов сомнениями с приятелем Бердяевым, – однако и в наших краях калачики на ольхе не виснут. Досуга он стесняется – не отнять. Только на общество горбится языком, а в своих теплицах душу старит. Теперь тоннелей под землей, как крот, набуровил. Налажу, пугает, промышленное производство шампиньонов и отобью людей от лошадей. Пластинчатыми, конечно, я не брезгую, но изба моя в его ямы провалилась.
– Личному подворью махают из правительства! – напомнил Бердяев. – Стало быть, польза народу, а ты за избу цепляешься. Человек за овощ, можно сказать, живот кладет…
Жук колорадский посетил округу. Общественное поле объел и потянулся на личное. Деревенские глядели на иностранцев, ахали, но воспрепятствовать насекомому не умели. Отечественная наука средств защиты от паразита не произвела, хотя, по слухам, до батальона докторов наук и кандидатов сцепились с американским клубнеедом в смертельной схватке. В честной борьбе победил жук, хотя за время его закрепления от западных границ до Урала еще полурота ученых выставила миру кандидатские и обогатилась повышенным окладом за счет этой прожорливой сволочи. Но уральский и нечерноземный крестьянин о том ни сном ни духом.
– Сочная моя, вместо того чтобы в голове искать, потряси ботву да пугани жука! – вежливо намекал Густотелов. – Чую, без картошки в зиму нырнем!
– Окстись, Миша! – не без достоинства отвечала сонная хозяйка. – Ну-ка, полезу в гряды за клопиками людей смешить! Ты бы для этих целев фазана купил. Вон, говорят, в Венгрии откорм ихний организовали на кар- тошкиных полях.
В разгар колорадского недоумения в гости к Густотелову вывалился из города бывший литератор и пьянчило Леонид Женобродов. В компании мужик розлив поддерживал, но злоупотреблять давно перестал. Мужики обезводили пару самоваров да засиделись в разговорах, пока не поблекла Венера.
Вера Густотелова очнулась от сладкой дремы к полудню. Побродив, зевая, по прохладному полу, глянула в окно. Приезжий вместе с Михаилом, погрузившись до поясов в дремучую ботву, сдергивали с побегов и листьев вредителей, сбрасывали целыми в банки. Одна емкость из-под болгарских огурцов была забита жуками наполовину. Разогнувшись, Густотелов записал химическим карандашом очередную цифру на этикетке.
– Гербарию ладишь, Миша? – нежно позвала Вера, подкравшись к испольщикам.
Густотелов не отвечал, приземлил банку и быстро выловил со стеблей горсть желтых в крапинку.
– Немеют конечности, а то бы затроил в энтузиазме! – весело аукнулся просветитель. – Спеши, Михаил, солнце припечет – паразит в гумус сползет!
– Извести, а то закричу на село! – рванув мужа на себя, потребовала заинтригованная женщина. – Ты меня знаешь, Миша!
– Тебе без интереса, еле-еле ходишь! – Михаил сбросил с плеч тяжелые руки любимой. – А мы копейку теряем!
– Жене-то скажи! – предостерег товарища Женобродов. – Но больше никому!
– В городе объявили по радио, что жук идет по пятаку! – зашептал Густотелов. – Адрес приемного пункта писатель привез!
– У вас, мужики, последние извилины выпрямились! – пожалела женщина. – Это ж воду решетом поддевать!
– Супруга Женобродова за пять дней на мебельный гарнитур нащипала. Сейчас делает перестановку вещей, вот и услала к нам Леонида.
Густотелова на миг отяжелела. Второй год мечтала она заменить гарнитур на африканский из власяного дерева – цена царапалась.
– Чего сразу не открылся? – Она решительно тряхнула рыжим волосом, подтыкая юбку. – Ведь всё одно деньги на отраву поменяете!
Вера мигом прогнала мужиков, порешив лично взять все деньги. Застаралась в одиночестве – куда и лень сгинула!
Долго еще корчились мужики от смеха на задках избы да пропустили момент, когда Вера отлучилась к подруге – Зинаиде Указовой. Бывшая вдова дала клятву молчать, но скоро вышептала о почине всем родным и нужным. В сумерках народ тайно, но опрометью побежал на огороды.
В темно-синюю заполночь при блестевшей, как лакированный ноготь, выпуклой луне кузнец и бывший литератор внимательно обозревали с крыльца сборщиков насекомых.
– Заглотил поселянин наживку, – попыхивая трубкой, констатировал Женобродов. – К зорьке кончат пришельца.
– Не раньше полудня, – уточнил Густотелов, точнее меривший полевые объемы, – хотя лихо и безо всякого ОТК прочесывают заросли. Конечно, обманывать некрасиво, зато в деревне будет добрый клубень и люди не попрутся зимой у горожан его отымать!
В 15:03 на станционной платформе нежданно-негаданно сгуртовалась женская часть конпоселка. Видели и уздяевскую «волгу», на гоночной скорости шедшую к городу примерно в то же время. В вагонах люди не подымали глаз друг на друга, а когда добрались до места, рассыпались по проулкам. Велико же было удивление общества, когда всё оно столкнулось у дома № 11 по Сибирской.
– Моторизованную милицию свистнуть? – распахнув после долгого штурма дверь, закричал дедушка. – Национальным языком повторяю: не скупляют тут жуков. От вас, верно, приезжал чудик на машине с целым мешком насекомых. Грозился, если не возьмешь, на городские огороды порчу навести, ну мы его в отделение милиции и надоумили. А здание это, граждане, арендует общество любителей ночного пения. Вот ежели бы вы соловьев привезли или, на худой конец, цикадок…
По совету того же мудрого сторожа коннозаводцы посетили зоопарк и накормили курообразных колорадским деликатесом. Мужики, однако, на розыгрыш не обиделись, а порешили на сходе поблагодарить кузнеца за науку. Однако Густотелов и бывший публицист, завидя целившую к их избе демонстрацию, бежали в тайгу.
Люди девятого конпоселка долго вспоминали эту историю и делились подробностями с дачниками. Только Уздяев соорудил на кузнеца анонимку.
Михаил Густотелов на тернистом полигоне жизни твердо соблюдал свои принципы и убеждения. Веровал, например, что все нынешние языки отпочковались от китайского. Взгляды свои коваль изложил в письме в зональную академию наук. Так, он нашел тайное родство между славянскими апострофами и иероглифами. Другой аргумент кузнец отыскал в популярной, а значит, выверенной во всех инстанциях песне со словами: «русский с китайцем – братья навек». Густотелов ценил восточного своего соседа. В разговорах он то и дело поминал «великую китайскую стену», «великую китайскую свиную тушенку», «великую китайскую культуру». Правда, люди замечали, что в усердии пермяк перепахивал межу, и осаживали его помалу.
Однако все причуды и благоглупости кузнецу прощали за высокое трудолюбие. Не было тому равных в ремесле по российскому кузнечному цеху.
За особую ловкость при ковке лошадей Густотелов был отправлен на международное состязание ковалей в Швецию. На акклиматизацию в капиталистическом режиме мужику дали ровно сутки. Кузнец провел всё время в гостиничной постели, выражая таким образом нерешительный протест против тамошних товарно-денежных отношений, порнографии, конформизма скандинавов. Главное, денег ему забыли дать наставники.
Наутро лучшие ковали европейских держав сошлись на столичном ипподроме. Диктор бодрым голосом выкликнул фамилии участников схватки.
– Ну, Густотелов, подвигайся с молитвой! – благословил Михаила старший команды, в которой все за мастером приглядывали и охраняли. – Гляди, парень, не подведи страну-то нашу, а заодно и союзников по СЭВу!
В шестерке своих коней Густотелов без труда отыскал английскую верховую, тракена, орловца, американца… Породы знакомые, а воспитание чужое, волновался Михаил, неизвестно, какой норов у скотины, может, лягается насмерть.
Судья опустил флаг. Михаил успокоился сразу, как погладил орловца и скормил ему ржаную соленую горбушку. Кузнец пошуровал копытным ножом, примерил подкову и сунулся с гвоздем. А гвоздь-то в отверстие подковы не пошел – не того, стало быть, диаметра.
Густотелова кинуло в жар. Рванул к начальникам – там уже началась паника, – нахватал гвоздей. А на показательном поле ковали по второй лошади кончали. Здоровенный мрачный цыган – король кузнецов Западной и Южной Европы – к третьему коню подвигался. Михаил отметил, что тот работает ладно: взглянет на животное, ладонью по глазам смажет – готова лошадь, в гипнозе.
Густотелов опомнился и приступил к функциональным обязанностям.
Он спешно подобрал у рысака левую переднюю, загнул в бабке и без примерки вбил подкову.
Толпа на трибунах вдруг ахнула. В момент удара у русского появилась третья рука. И все три руки замолотили по подковам с нечеловеческой скоростью и прицельностью. В пять минут Густотелов настиг квадратного шведа Свена Петерсона-младшего. Через такой же промежуток Михаил достал французского коваля. Цыган страшно хрипел, шептал заклинания, но отставал.
Скандинавы насторожили часы и поднялись как один. Русский нагло шел на свержение мирового рекорда.
В родных краях Густотелову не единожды перепадало за трехрукость.
Однако она, мнилось ковалю, и ремесло, и саму державу не раз спасала в суровые времена. В лихолетье вся Россия становилась трехрукой, но в межсезонье излишество тела не допускалось.
Как-то Густотелов помог бабушке Деменевой памятник мужу-фронтовику соорудить. От мзды, естественно, отказался. Да застукали его (по письму Уздяева) городские контролеры в кузне за высокохудожественной работой, обвинили в мелкохищническом инстинкте, в умыкании госжелеза для «левой» оградки – и прирезали кузнецу два оклада и премию. Однако упрямый кузнец за одну ночь перед святым наказанием отковал-таки памятник герою-односельчанину и на себе снес на погост.
Из-за той же трехрукости Густотелов, в жизнь не слизнувший капли спиртного, попал в активисты антихмельного сопротивления. Третья – фальшивая – рука выскочила, когда голосовали за открытие в районе винного магазина. Она, можно сказать, облегчала жизнь в щекотливой ситуации.
Густотелов, например, не раз голосовал за кандидата лично ему неизвестного, но уже как бы народным единомыслием приговоренного к высокой должности и безразмерному окладу. Настоящая рука не поднималась – высовывалась фальшивая и срамила согласием. Впрочем, у других было то же.
В ту пору районный мужик настолько от общественной жизни облегчился, что вовсе укоротил процедуру собрания. Только обнаружит себя в каком-нибудь зале, так сразу руку тянет и бежит к выходам. А ведь и дельное говорили на сходах.
…В Швеции тем временем дозревал скандал. Шведы сильно разминулись во мнениях о лишней конечности русского. Коннолюбительское, а позднее всё дееспособное общество распалось на несколько толков, что и неудивительно при многопартийной системе.
Материалисты заявляли, что третья рука пермского кузнеца – оптический обман безо всякой мистики и придури. Русский придал конечности такую быстроту, что одна его рука раздвоилась и завибрировала – как зубцы камертона при ударе. «Эффект дополнительной конечности, – писала одна временно прогрессивная газета, – связан с состоянием русской души – таинственной удалью».
Верующие граждане – таких было большинство – открыто говорили о небесном промысле. Поддержка бесплотными советского коваля расценивалась как наказание шведу за нерадение к церкви.
Противники наши сначала завопили о «руке Кремля», а потом и вовсе докатились до абсурда, порочащего гармоническую анатомию советского человека. Они утверждали, что пермский сельскохозяйственный рабочий Густотелов прибыл в Швецию трехруким. Аномалию скрыл, надеясь провести простодушных северян и умыкнуть в запретные уральские края приз – килограммовую золотую подкову. Мракобесы призывали судейских выступить против двух правых русского, хотя тут же признавали, что две правые законнее двух левых, – то был откровенный намек на рвущиеся к власти две либеральные партии.
Шведская академия ортопедических и сопряженных наук выдвинула свою гипотезу. По ее версии, русские наладили массовое изготовление конечностей человека, включая голову, из соединительно-белковой ткани животных. Называли и предположительный адрес тайного полигона – курганскую клинику доктора Гавриила Илизарова.
Только Свен Петерсон, проигравший Густотелову десять минут и пару лошадей, объявил журналистам, правда, нырнув предварительно в себя минут на сто, что русский – суперкузнец, работа его безукоризненна, победа заслуженна.
Много позднее в ночном разговоре с конюхом Бердяевым Густотелов выразился о турнире в Стокгольме без особого подъема и спортивного фраерства:
– В чужой стране да без денег – до ликования ли было? Только и мыслев, чтоб домой впустили. Предупредил там один: не обскачешь, мол, врагов – считай себя невозвращенцем. Ковку ту я еле-еле – на пупе – вытащил и чуть не загнулся после от раздражения килы! И подкову ту мне пощупать не дали – забросили ее вверх по инстанциям.
– Каждый по-своему из нужды скребется, – мудро ответил Бердяев, теплея голосом на признание. – Да не все – по совести.
Бердяев знал, что Густотелов всю жизнь по-своему выбивался из нужды. Все помыслы коваля были направлены на то, чтобы иметь возможно меньше вещей, а главное – не нуждаться ни в одной из них. Такую принял на себя схиму. Даже лозунг о конечной цели человечества – удовлетворении и материальных потребностей – кузнец долго не принимал, думал – вражеский.
Густотелов звякнул засовом и шагнул в кузницу. Тотчас поднялся навстречу мучной запах шлака и окалины. Кузнец любил и знойный каленый, и вчерашний осторожный запах рабочего железа и угля так же сильно, как сытный запах хлебного поля. Ему иногда даже казалось, хотя сроду не занимался этим, что он смог бы нарисовать эти запахи, до того они были ощутимые, телесные.
Угли еще теплились. Михаил Иванович поворошил штырем, качнул, игнорируя электропривод, руками мехи. Стены осветились, исчез пыльный налет на предметах. В сердце коваля неспешно натекала радость. Именно в первые минуты перед делом Густотелов и ловил ее сполна, а потом вбегал с заказами растревоженный мужик и превращал всё в заботу. Михаил смахнул с наковальни пыльцу, вложил в огонь несколько стальных прутьев.
– Я помню, как с дальнего моря
Матроса примчал грузовик, –
негромко, но с обнаруженным чувством запел кузнец:
– Как в бане повесился с горя
Какой-то пропащий мужик…
Густотелов надел фартук, поворошил заготовки, вопросительно поглядывая на дверь:
– Как звонко, терзая гармошку,
Гуляли под топот и свист,
Какую чудесную брошку
На кепке носил гармонист…
Тут вбежал, запыхавшись, временный подручный кузнеца Леня Кельников, малый из конноспортивной секции, исполнительный, но рыхловатый еще у горячего железа.
– По минутам двигаешься, Леонид Васильевич! – как бы между прочим похвалил Михаил. – Установился дых? Покатили…
Конного завода кузнец Михаил Густотелов выдернул из пламени раскаленный, стеаринового цвета прут, уложил на наковальню и сильным ударом примял его свободный конец. Подросток чуток запоздал, заваливая ритм, но вскоре подтянулся. И закольцевалось в кузне: «Дзон–здемь! Дзон–здемь! Дзон-здемь!» Точно в кованый сундук кто-то с размаху бросал тугие стальные шары. Ковали свернули железяку полукругом, уместили в толщину ржаного стебля. Густотелов не глядя вбросил готовую подкову в ведерко с маслом, и та, фыркнув ежом, остыла.
– Сейчас ты, Леонид, начинай, не суетясь! – приказал Густотелов.
До обеда настучали подков на десяток рысаков и шаговых лошадей.
– Аут, Леонид! – Кузнец положил молот. – Снеси эти подковы тренеру – и свободен.
Часа через два кузнеца уже видели в городе близ присутственных мест.
Следующим утром коваль немилосердно выгонял вчерашнюю норму по подковам и правил тяги к конным косилкам. За этим и застал его директор, имевший потребность заезжать в болевые точки страды. Там Чеглок коротко расспрашивал мужиков о делах, втравливал в откровенные диспуты – мини-сходы.
Густотелов отчитался за пульс кузни, посетовал на падение напряжения в сети к вечеру – ему часто приходилось ночи захватывать с этим ремонтом.
– Сомнение меня примяло насчет земельного кодекса, – поехал неожиданно не в ту степь коваль.
– Лирику, Михаил Иванович, перенесем ближе к дожинкам. – Директор застрял в проеме двери и навел на кузнеца большое умное лицо. – Бумагу ту люди изладили, людям же ее и править.
– Рабочий в посевную или на уборке сутками мотыжит без роздыха, – нарисовал безрадостную картину Густотелов. – В те же сроки пенсионер-малолетка гражданин Уздяев мимо него на «волге» с песней голубой да со свежей закусью мчит на рынок. Рабочий, между прочим, подсчитал, что за месячный свой труд он только-только жизнь выкупит, а Уздяев в одну рыночную вахту снимет поболе.
– Пенсионер в народном хозяйстве – радость страны! – заметил Чеглок с неудовольствием.
– Против другого кричу! – признался кузнец. – У рабочего и у гражданина при огороде по двадцать пять соток земли. Не по советским декретам получается. Выходит, что по пространству подворья люди равны, а по времени неодинаковы. По моему мнению, гражданин Уздяев разлагает сельский народ.
– Не лишку земли, а отпавших от конезавода уже более ста семей скопилось, – не отмахнулся Чеглок от разговора. – Надел огромный у них такой же, как у рабочего хозяйства. Но беспокоит, что семьи-трутни объявились, жнут прибыль от теплиц и к рынку намертво прикипели под образом того же крестьянина.
– Знакомый помощник прокурора мне вчера познания расширил по земельному праву, – выложил сразу кузнец, чтобы директор не терялся в догадках. – Мы с ним на югах подружились…
– Начни с параграфа, а не с прокурора, – поторопил Чеглок, поглядев на часы.
– Перекормлен Уздяев пашней! – доложил кузнец. – В кодексе о земле впечатано, что семье, проживающей в сельской местности, отпускается до пятнадцати соток. Тут весь смысл в этом «до».
– По сотке вернуть – сто соток, целая окультуренная равнина прибудет в совхоз, – подсчитал быстро Чеглок, и глаза его подернулись голубой хмарью.
– Резать огород не у всякого стоит, – неназойливо поучал Густотелов. – Потрудился, скажем, не парадоксально человек на конзавод – получи полный надел и выходи, коли нужда, из хозяйства. Многодетных не трогать, их щемить грех. А вот Уздяеву и подобным оставить пару соток на зелень, квашенину и малую продажу. При нынешней свободе личного времени он молодых да нестойких открыто совращает на отпад от конезавода.
– Ты, Михаил Иванович, надоумил, тебе и зачин делать на очередном собрании.
…В следующий раз Густотелов выбрался к свету лишь вечером. Закат полыхал, как последний раз, по избам, и на улице маялась тишина – люди не вернулись со страдования. Во дворе шумно возился гражданин Уздяев. Завидя коваля, Уздяев выставил из подгрибной ямы свое контрольное лицо:
– Железа много по дворам покоится, Михаил Иванович. Ты бы рейд организовал, что ли. Лишняя мотодрезина прибудет для родной железной дороги!
– Врастаешь в почву… мицелий? – приветливо отбил выпад Густотелов. – Чем к трудящимся вязаться, сам бы прибрал лом с коннозаводского ландшафта.
– Функция у меня нынче другая, – загадочно объяснил Уздяев. – Персонально встряхивать коллективы на неровностях нашего бытия. Заходи, Миша, в оградку, сладким огурцом угощу.
– Огорода под тобой не много? – судейски точно поставил вопрос коваль. – По японским миниатюрным стандартам ты, Иона, помещик средней руки.
– К чужому добру пасть не подвигай! – закипел нерастраченный пенсионер, и лицо его приблизилось к колеру царь-свеклы. – Сколь по бумаге определено, столь и есть!
– Нёроботь в норме ограничена! – официально поправил Густотелов. – Декрет о земле нарушаем, а потому, гражданин Уздяев, огород твой подлежит экспроприации в пользу конезавода!
– Поперек государства, коваль, вскинулся? – взревел Иона. – Нынче закон меня надежно схоронил от нелояльного и завистливого догляда!
Уздяев в лучах заходящего солнца очень разгорячился, пушнина на голове и лице вздыбилась, и он стал похож на неведомое огородное растение.
– Верно, Иона, закон не препятствует усадьбе крестьянина богатеть, но – не за державный счет! – вылущил смысл постановлений Густотелов. – Земля у тебя тучная и в середке села, а коннозаводский рабочий землю у тайги выламывает и в болоте мокнет за гектары.
На очередном собрании народ активно поддержал перекрой усадебного клина.
– Выплесневел Уздяев на прежних своих функциях, – поставил диагноз опытный коновал Бердяев. – Жить разучился по народному бдению. Предлагаю оставить три сотки близ усадьбы – как пенсионеру, околдовавшему вдову конпоселка и полупостоянно обитающему на нашей местности.
– Выделить десять соток на торфянике, учитывая прежние заслуги Зинаиды, – расщедрился Густотелов. – Пусть возделают неудобицу.
Голосовали открыто, и кузнеца чуть было с испугу не госпитализировали. При поднятии рук за отчуждение части коннозаводских земель из несовхозных семей коваль ощетинился сразу тремя. Рабочие промолчали, но встал товарищ из города:
– Мужик на инвалидности или полу-Шива какой?
– Околотился я среди народа за два десятка лет, – просто и исчерпывающе отвечал Чеглок. – И ничего необычного в строении тела и складе его души не нахожу.
Уздяев о погибели прознал не тотчас и загрустил, хотя срок огородного передела падал на очередной декабрь. Недели две Иона вышагивал в сильной задумчивости, а потом стал сносить ценные вещи в автомобиль.
– Вертайся, Зинаида, в прежнее гражданское состояние вдовы, – душевно попрощался он с женщиной. – По осени заеду по овощи и плоды. Говорят, в соседнем районе обитают вдовы с домами и наделами да без окаянных кузнецов за окном!
– Остался бы, голубь! – Вдова, ломая пухлые локти, пала на колени. – Народ со временем отойдет и расширит огородный клин!
– Новую жизнь зачну с грибных траншей, – поделился Уздяев производственными секретами. – За милую душу к осенним торжествам хватают шампиньон по червонцу за кучку! Ты, Зинуля, сама нагрянь ко мне в город. Правда, в моей квартире три семейства обитают по найму – за два года я с них деньги слупил, но нам с тобой в ванной не тесно будет!
Сказав горькие для вдовы слова, Уздяев провалился.
Конного завода кузнец Михаил Густотелов торопился на сенокосы. Он пристрастно оглядывал лес, сырые мелколиственники, на подступах к которым перегоняли друг друга соцветия кипрея, пятнистого болиголова, чемерицы, клевера и малины. Низины земель сокрыли туманы, как новые реки с неотгаданными берегами и сонными белесыми рыбами. Солнце, белея, лезло выше, густели запахи утренних лесов и лугов – от потайного заплесневелого выхода источенных корневищ, вывороченных зимних нор, мокрой глины и доломита до открытого медового запаха свежего брожения и зачатой жизни.
Середина июня лезла изо всех пор и кратеров земли – любимая пора кузнеца. Только в июне небо для него было самое голубое и хрупкое, цветы волновали незамутненностью и чистотой линий, а земля, человек и зерно освобождались от застойной тяжести – сильный, бодрый, неукротимый дух поднимал их над миром, точно облегчал плоть для будущей страды, очередных невзгод и смертей.
Густотелов радовался, с сыновьим прищуром глядя на обновленную родину, – его настроение тоже было приметой перемен в мире.
Как всякий совестливый и гордый ремесленник, кузнец радовался именному вызову на полевой стан конзаводцев – приглашению к коллективной выделке зреющих лугов.
Предчувствие сытой зимовки радовало человека.
Но старательно цеплялось за радость и омрачало дух недоумение от злобного, нарочитого желания каких-то людей быть не в ладу с природой и с добром.
Вот и тут, в глухих местах, обнаружился человек темнотой. Опутал картофельные делянки концентрационной проволокой – защитил свое.
Всё же хорошей жизни нарастало куда больше. Она темнела перед глазами кузнеца волнистой зеленью берез, капельками от испарения полей, добрыми своротами дороги.
И везде – на стеблях, среди кочек, над норами и между цветами разъяренного шиповника – белела четкая паутина, точно здесь потрудился ночью огромный ткацкий цех. Плодный натиск жизни был так мощен и независим, что серебристые зонты сплошь опутали грубые комья земли и ржавую колючую проволоку.
«Нет такой ржавчины, которая подмяла бы даже самый слабый след жизни, – спокойно отметил и тут же забыл кузнец. – Нет ее и не станет».