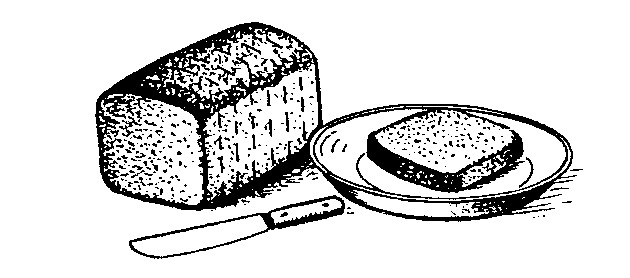Блокадные девочки
Виктор Семёнович Бакин родился 1 ноября 1957 года в г. Мураши Кировской области. Окончил местный политехнический институт по специальности «инженер-строитель». В вятскую журналистику пришёл в середине 1970-х, будучи студентом. Работал в газетах «Комсомольское племя», «Вятский край», «Кировская правда». Член Союза журналистов и Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Кировской области. Автор десяти книг прозы. Публиковался в журналах «Москва», «Дружба народов», «Роман-газете». Лауреат многочисленных областных премий. За книгу «На Великую…» удостоен Всероссийской православной литературной премии им. святого и благоверного князя Александра Невского и Всероссийской литературной премии «Имперская культура» им. профессора Эдуарда Володина.
Дважды признавался писателем года. В 2010 году получил звание «Вятский горожанин» за публикации об Александро-Невском соборе. Кавалер ордена Достоевского II степени. За книгу «Война матерей» удостоен высшей награды Российского союза ветеранов Афганистана – ордена «За заслуги».
ГЛАВЫ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ
Виктор БАКИН
Почему так избирательна память? Почему порой так мучительно беспощадна?..
Подумаю случаем о Великой Отечественной, и один эпизод непременно всплывает в памяти, один короткий отрывок из множества прежде прочитанных книг – пронзительный, по-детски бесхитростный – начинает бередить сердце томительным холодом.
«…На Новый 1942 год нам выдали по карточкам вместо хлеба по маленькому кубику соевого шоколада. Бабушка лежала уже недвижимая в кровати, но мама и ей сунула в рот этот маленький кусочек. В новогоднюю ночь бабушка умерла, а шоколадка так и осталась у неё, зажатая зубами. Мы перенесли бабушку в другую комнату и положили на стол. Я очень боялась войти в эту комнату, но брат не побоялся ночью войти туда и вытащить у бабушки изо рта шоколадку.
Через день к нам пришла тётя Тина, жена маминого брата, привезла на санках дядю Женю, чтобы бабушка могла проститься с сыном. Узнав, что и бабушка умерла, мама с тётей Тиной решили положить их в одностворчатый шкаф, который стоял в прихожей, и вдвоём повезли их на санках на пустырь, который находился на Голодае Васильевского острова. Там рыли траншеи недалеко от школы, в которые хоронили штабелями трупы. Мама отдала бабушкину хлебную карточку могильщикам, чтобы при ней в могилу положили бабушку и дядю Женю…»
Эти воспоминания о блокадном Ленинграде Вера Петровна Зеферова, живущая позднее в Кирове, писала для своей внучки к её десятилетию, но однажды они были опубликованы. Почему к десятилетию? Потому что и Вере Петровне в 1941 году, когда началась война, было 10 лет… Её и прежде часто просили рассказать о пережитом, но она всегда отмалчивалась, боялась, что люди, не перенёсшие страданий блокадного Ленинграда, могут не поверить в ту страшную правду, о которой она могла им поведать без всяких прикрас. Взялась же за перо, чтобы внучка прочитала эти строки и знала настоящую цену и хлебу, и миру…
Так и я, прочитав однажды эти горькие странички, запомнил на все последующие дни и этот кусочек соевого шоколада, стянутый украдкой голодным мальчиком у умершей бабушки, и одностворчатый шкаф-домовину…
Горький шоколад Победы…
…Много позже она сделает такую выписку из учёных книг: «…По неполным данным, жертвами блокады стали свыше 1 миллиона 413 тысяч человек. Или 57,6 процента ленинградцев по отношению к началу блокадного голода. Или 47 процентов по отношению к численности населения довоенного Ленинграда… Критический период блокады смогли пережить около одного миллиона человек. Из них 557 тысяч 760 человек пережили всю блокаду… Жителям блокадного Ленинграда пришлось пережить практически пять месяцев полного голода. Это зима 1941–1942 годов. И двадцать два месяца последующего частичного голодания…»
По своему малолетству самый страшный период блокады Татьяна Ивановна Кармазина не помнит: когда началась война, маленькой Танечке Ильиной был всего годик с небольшим.
Она родилась 3 марта 1940 года – как раз в те весенние дни закончилась финская военная кампания. И потому мама считала дочь счастливым талисманом, предвестницей мира и была абсолютно убеждена: с ними ничего дурного случиться не может. Не должно! Несмотря ни на какие лишения! И наотрез отказывалась покидать осаждённый Ленинград…
Семьёй из четырёх человек они жили на Большой Охте, в двухкомнатной квартире с печным отоплением на третьем этаже каменного дома дореволюционной постройки. Но с началом войны отец, Иван Константинович, выпускник военного училища младших командиров, отвечающий по нынешней поре за снабжение одеждой и питанием ремесленников на Кировском заводе, был переведён на казарменное положение. Навещать родных, чтобы узнать, живы ли они, Ильин мог только раз в месяц. Чаще просто не получалось… Мама, Анна Ивановна, коренная петербурженка, теперь была ответственна и за маленькую дочурку, и за свою престарелую слепую мать…
Водопровод не работал, за водой Анна Ивановна привычно ходила на Неву. Когда же таскать тяжёлое ведро совсем не осталось сил, брала с собой бидончик… А там тоже преграда. Когда к реке спускаешься, между берегом и уровнем льда перепад метра два – два с половиной. Сделаны для удобства схода ступеньки. Но люди постоянно падали, воду разливали, потому на ступенях наросла сплошная ледяная короста. На ней пытались делать зарубины, но это помогало мало. Поэтому сверху к реке просто скатывались. А обратный путь, как подняться – тут не сразу и сообразишь… И вот выстоит Анна Ивановна очередь к проруби, кружкой воду начерпает. Потом поставит бидончик рядом с собой на снег и терпеливо ждёт, когда же набранная вода покроется сверху кружком льда. Как пробкой, закроет горловину. Чтобы в случае падения не расплескать. Иначе вновь в хвост очереди придётся пристраиваться. А как иначе?
Кто-то, говорят, просто брал с улицы снег и растапливал. Но Ильины береглись, на подобное не соглашались. Потому что городской снег и на снег-то походил очень мало: помои и прочие нечистоты тогда из окон сливали прямо в форточку. Или на лестничную клетку все эти отходы разом вымахивались. Да и трупы на дворовой площадке, возле парадных нередко грудились, закоченевшие на сильном морозе…
По осени сорок первого года при объявлении воздушной тревоги все жильцы дружно спускались в подвал, примитивно оборудованный под бомбоубежище. Но однажды большая фугасная бомба упала рядом с домом Ильиных. И сразу заходили ходуном полутораметровые стены, захлюпала сливная вода в канализации, порвались провода, погас свет. Было жуткое ощущение потерянности и страха – дети заплакали, женщины заголосили. Если бежать – не знаешь куда. Подвал битком, кругом темно, ориентир спасительного выхода потерян… Сразу пришли на память подобные случаи: от падения большой бомбы расходились фановые канализационные трубы, которые по устройству просто входят одна в другую, а стыки держатся исключительно на замазке. И когда земля колебалась от взрыва, подвал затапливало отхожими водами. Вместе с людьми…
После памятного случая с падением бомбы мама Тани твёрдо заявила: «Всё, больше я в бомбоубежище спускаться не буду. Зачем? Если прямое попадание, так оно и в подвал пройдёт. А если будет частичное обрушение, так с нашего третьего этажа легче спастись, чем из подвала…»
С той поры, едва объявят воздушную тревогу, она хватала дочь и падала на кровать. Сверху набрасывала матрасы, одеяла, одежду. Словно этот ворох тряпья мог от чего-то уберечь… А вот слепая бабушка осторожно, по стеночке постоянно ползала в подвал, пока ноги держали. Так жить хотела, так боялась налётов. И одно упорно твердила дочери: «Не спускаетесь в подвал – очень рискуете. Так нельзя…»
За свою долгую жизнь старушка пережила и русско-японскую кампанию, и Первую мировую, и Гражданскую войну… Поэтому постоянно хранила небольшой НЗ. Продуктовый набор: овсянка, лук, соль, спички, цикорий с кофе… И никак не могла поверить, что всем ленинградцам выдают такой скудный паёк, 125 граммов хлеба. Даже прямо выговаривала дочери: «Ты меня обманываешь. Ты пользуешься моей слепотой. Ты меня объедаешь… Даже в Гражданскую войну такого не бывало…»
Обидно было слышать эти упрёки, но что ж поделаешь…
Бабушка умерла от голода 15 марта 1942 года. Как раз пришёл на побывку отец – он и договаривался о похоронах. Отдали могильщикам продуктовую карточку, чтобы всё сделали по-человечески. И бабушка упокоилась не в общей безымянной братской могиле, а рядом с захоронением деда. На Большеохтинском кладбище…
Пережившим первую блокадную зиму было уже ничего не страшно. Привыкли постепенно к бомбёжкам, привыкли к артобстрелам. Но главное – весной город вскопал грядки. Раскопали под них всю прибрежную зону, цветники около Исаакиевского собора, Марсово поле, Лебяжью канавку, Летний сад. А кто-то и прямо во дворах поднял землю под посадку, используя каждый свободный клочок… Выдали и семена – картошку, морковку, брюкву, редиску. А ещё памятки, как надо выращивать зелень и овощи.
Чтобы не было такого холода, как в минувшую зиму, летом сорок второго года власти вынесли решение – деревянные дома разобрать на дрова. Таких домов на Охте было много. Вот их и разбирали, а жильцов коменданты спешно определяли на подселение, в пустующие квартиры…
В начале июля после падения Севастополя все ожидали нового штурма Ленинграда. Поэтому комитет обороны постановил оставить в городе только работающее население. Персонал промышленных предприятий, госпиталей, хлебозаводов, жилищных контор. А всех иждивенцев, особенно детей, вывезти. И хотя мама маленькой Тани упорно противилась эвакуации – приказ строг и подлежал неукоснительному исполнению. В конце июля 1942-го они вынуждены были оставить родной Ленинград.
Добрались до Тамбова, пристроились на отдых на привокзальной площади. И вдруг воздушная тревога – неизвестный самолёт пронзил небо. Все разбежались кто куда. Напуганные тёти и старушки бросились к спасительному забору: головы попрятали, а ноги и попы – все наружу… А у Ильиных никаких сил нет, чтобы куда-то сдвинуться. Сидят на чемодане: у Анны Ивановны ещё рюкзак за спиной, к ней утомлённая дочка привалилась, сжалась в страхе в комочек. Подходит тут к беженцам строгий милиционер, начинает выговаривать: «Гражданочка, так нельзя. Надо бы в укрытие…» А Танина мама устало отвечает: «Я еду из Ленинграда. Мне уже ничего не страшно…» Милиционер от них тогда и отступился…
Наконец вот она – деревня, где проживали отец и мать Ивана Константиновича. Встретились, обнялись, поплакали… А в деревне той уже много беженцев. Вот дед с бабкой откуда-то с Украины. Деда почему-то называли скопцом, голосок у него был какой-то странный, почти детский. И при этом был дедок страшный матерщинник. А бабка – вечная хлопотунья… У них в пользовании земельный участок, где выращивали тыквы-голосеменки. Такое название, потому что там семечки не покрыты оболочкой… И Танюшу они как-то особо привечали, жалели. Позовут, бывало, к себе в землянку, где всё свободное пространство завешано разными целебными травками и пахнет так вкусно. А в углу сложены рядком тыквы. Оранжевые, большие. И вот дед заявляет: «Танька, ну-ка счас тебе тыкву разрежем…» Разрежет, ругается: «Ай-ай, опять не голосеменки. Только зря овощ спортил… Да ничё, давай другую разрежем. Авось, повезет… Ага, вот и голосеменки! Ешь!..» А эти семечки, не покрытые кожурой, такие были вкусные, такие желанные. Не передать. Да и простые тыквы тоже ничего. Сладкие, как пирожные. Мама Тани так и говорила: «Эта тыква прямо пареная дуричка…»
Когда Ильины приехали в деревню, у Тани скоро болячки начались. Золотуха открылась, потом подцепила чесотку. Доходяга потому что, дистрофия, следствие перенесённой блокады. И её обрили наголо…
Так прожили дочь с матерью до конца зимы 1944 года. Тане было уже около четырёх лет – возраст сознательный, поэтому кое-что из той поры она уже помнит… А когда прорвали блокаду и пустили первый поезд, за ними приехал отец и перевёз семью в Тихвин. Там в двухэтажном деревянном доме они и встретили конец войны.
– Помню кладовочку, где мама хранила продукты. Стыдно признаться, но я воровала оттуда прессованные сухофрукты: кусочки сушёных яблочек, чернослив… – с грустной улыбкой вспоминает сегодня те годы Татьяна Ивановна Кармазина, председатель совета Кировского городского общественного объединения «Жители блокадного Ленинграда». – Помню, как мы с подружками собирали черепки разбитых блюдечек и чашек, а потом спорили, у кого самый красивый обломочек… Помню, как мама посылала меня рвать крапиву для супа. Никаких варежек нет, но всё равно ступай и рви… Помню, как в детском саду мы декламировали стихи. А я была девочка упрямая. Как запомню что-то с первого раза, так упорно и повторяю. Вот заучивали стихотворение, а там фраза «С хитрым справимся врагом…» Я же почему-то запомнила «С хитрым праздником врагом…» Так и повторяла раз за разом. Мама мне выговаривает: «Это что? С каким ещё праздником врагом? Это ещё что за выдумки?» А я упорно стою на своём: «Нам так сказали, так я и буду читать…» Детский каприз, бывает…
Мама входила в родительский комитет. Однажды этот комитет раздобыл несколько плиток американского шоколада. Настоящего чёрного шоколада. И взрослые решили устроить нам праздник на День Победы. Сварили эти плитки, и горячий шоколад разлили по маленьким чашечкам. Без сахара – сахара же не было. Я попробовала – мне не понравилось. Глоток сделала и отставила. Горько… А остальные, кто выпил, потом долго маялись животами… Так меня Бог хранил.
Два с половиной года мне было, когда мы уехали из Ленинграда в эвакуацию. И в памяти о блокаде остались только отдельные звуки. Вой сирены. Стук метронома. Впрочем, возможно, это уже накладка, послевоенные впечатления…
«Робка, не воруй!..»
Из рассказа Ираиды Петровны Перевощиковой:
– …Стало холодать. Ввели карточки. И тут мама попадает в больницу. И мне пришлось бегать туда всё время. Надо же было её попроведать… Мама из скудного больничного рациона умудрялась что-то и для нас с братом выкроить и потом через окошечко в узелочке передать. И я тогда несусь домой с этой передачкой – очень боялась, что не утерплю, всё сама съем. Хотя надо было и братику оставить.
А братик Робка уже не мог ходить, не вставал. И мы с ним, чтобы согреться, рядышком лежим и смотрим часами в потолок. И мечтаем: «Господи, хоть бы буханка хлеба с неба упала…»
Помню, мама написала записку, что хочет мясного бульона. Это было её последнее желание. А где взять? Но папа что-то придумал, как-то извернулся… Но вот я в очередной раз прихожу в больницу, а соседки по маминой палате меня уже поджидают. И глаза отводят, не знают, как сообщить, что мамы больше нет. Только указывают на склад для покойников. Я к узенькому складскому окошечку подхожу, ищу маму взглядом – не могу найти. Покойников уж очень много. Только по руке признала…
Всю обратную дорогу проплакала. Домой прихожу, брату рассказываю – и он в слёзы. Потом обнялись и плакали уже вместе, почти до потери сознания…
У меня ещё подруга была – на одной лестничной площадке жили. У неё в эти дни бабушка умерла. Но лежит словно живая – глаза открыты. Страшно! Подружка в растерянности: что делать? И мы какие-то денежки нашли, какие-то монетки – ими и накрыли глаза…
Ещё помню, спускаюсь в подъезде вниз, а лестница вся жёлтая от замёрзших нечистот. Воды же не было, туалеты не работали – на ведро ходили. И потом его содержимое выливали прямо в подъезд. Или за окно на улицу. Вот кругом и висели эти мерзкие сосульки. Так некрасиво. Но запаха не чувствовалось, потому что сильные морозы… И вот спускаюсь я однажды по обледенелой лестнице, а на самом выходе – маленький ребёнок, завёрнутый во что-то беленькое. Только родился и уже не жилец. Что говорить – кошмарный ужас!..
Мы жили в Ленинграде на Барочной улице, дом 4, квартира 25. Это Петроградский район… В первые же дни войны мама сшила нам с братом специальные за спину мешочки, где лежали сухарики и бутылка воды. Так с мешочками мы и в газовое убежище бегали. Почему газовое? Потому что слухи ходили, что немцы хотят травить русских газами…
А ещё немецкие листовки помню: «Ленинградские дамочки, не копайте ямочки! Придут наши таночки, зароют ваши ямочки…» На всю жизнь это в памяти, эта агитация…
И вот мама умерла, братик слабенький, и папа не знал, что делать, чтобы нас спасти. Но как-то договорился – нас эвакуировали на катерах по воде. Потом ехали в телячьих вагонах. Брата папа держал на руках, а мне доверил плоский чемоданчик – там был хлеб. Видимо, на дорогу дали. Даже нарезанный. И мне очень хотелось хоть немного, хоть крошечку отщипнуть. Но стоило только до крышки дотронуться, попробовать её приоткрыть – весь народ сразу на меня внимание обращал. Так мне казалось. Ну как тут есть будешь, все же увидят…
Не знаю, где мы должны были выходить. На каждой остановке я бегала за водой. А потом с папой стало дурно. От голода у него случился постоянный понос. Помню, была ночь, и он всё время менял нижнее бельё… Так мы доехали до Котельнича, где нас высадили и на машине увезли в школу – там располагался сборный пункт. Папу положили в палату со взрослыми мужчинами. Братик тоже слабый, нездоровый. И я улягусь рядом с ним и что-нибудь утешительное говорю. Даже просила звать меня мамой…
В один день утром, как всегда, прихожу в папину палату. Только дверь открыла – все дяденьки такие стали насторожённые. Молчат. Потом сказали, что папу спустили в мертвецкую. Я туда по коридору несусь – сама не своя. Залетаю в морг: у одного лицо открою, у другого открою. Всё чужие дяди. А умирало тогда много. И вот наконец мой папа – лежит последний…
Конечно, как я плакала тогда – это не передать. Кошмар! У нас же с братом больше никого на свете нет. А мне всего одиннадцать лет…
Потом нас отправили в Волково, в санаторий. Там моего братика немного поставили на ноги. А летом 1942 года – в село Медяны, в детский дом, который располагался прямо в здании бывшей церкви.
«Не будете слушаться – отдам в детский дом!» – такую угрозу нам с братом порой мама высказывала. Но в шутку, любя! Когда мы на лыжах во дворе катались, она из окошка постоянно просила: «Ира, Роберт, закройте шарфом рот…» А мы не слушались и потому часто болели.
И вот мамы нет, а мы – в детдоме!
Едва первые шаги сделали – такой резонанс, такой шум. Дети, сколько их там было, все разом: «Новенькие приехали!» А мне так страшно – не передать…
Детский дом считался комсомольским. Но не было ни книг, ни одежды. И хлеба не хватало. Не было света – горели коптилки. Около коптилок вечерами сидели ребята постарше – двенадцати-тринадцати лет. Есть хочется, а есть нечего – вот они и играют в зубарики. Настолько этот звук неприятный, прямо душу разрывает…
Помню – первый день сентября. Нас отправили в школу в платьицах хэбэшных желтоватого цвета. Все обриты, чтобы не было вшей. Ещё выдали кирзовые ботиночки и белые чулки. Я эти белые чулочки никогда не надевала, оставила себе на память…
Как-то дежурю, встречаю случайно брата – он в руках и в карманах несёт лук. Спрашиваю: «Что это такое?» – «Лук». – «Где взял?» Он показал: «Вон в той комнате, в мешке». – «Зачем же ты взял?» – «Меня один мальчик попросил…» – «Надо мальчику, а берёшь ты? Что, хочешь быть вором или жуликом? У нас же нет родителей. Я не хочу, чтобы мой брат был жуликом или вором…» Так я это близко к сердцу приняла, так ругалась. Ещё сказала: «Я сегодня дежурная. И я тебе в столовой есть не дам…» Он испугался, побежал от меня, ему стыдно стало. А мне ещё палка какая-то попалась под руку, и я этой палкой его побила. Брат плачет, говорит, что тот мальчик больной. А я: «Ничего не знаю и знать не хочу. Не бери чужого!..»
А потом была общая линейка, и Робка извинялся перед строем, что воровски взял лук для больного товарища…
Мой маленький противогазик…
Из рассказа Инны Владимировны Токаревой (Турчаниновой):
– Я родилась на Петроградской стороне, а жили мы на улице Малопосадской, дом 19, квартира 36. Даже сейчас адрес помню. Это недалеко от Петропавловской крепости и дворца Кшесинской, где когда-то выступал Ленин… Мама сначала была счетоводом, потом стала бухгалтером в домоуправлении. Отец – инженер, во время войны ушёл на фронт, в морфлот. А бабушка – педагог, инспектор народного образования…
Жили в коммунальной квартире. Квартира большая, комнат много. Но во время войны кто-то умер, многие разъехались. И мы остались одни…
Три с половиной года мне было, когда война началась. Но мы так любили свой город, что не хотели его покидать. Первое время думали – скоро война кончится. Хотя разговоров ходило много, что надо уезжать. Но решили пока не ехать. А потом уже совершенно невозможно было уехать. И мы остались в городе на всю войну.
В садик я не ходила – меня оставляли дома одну. Представляете: кругом бомбёжки, голод. И никого из соседей нет. Совсем одна в пустой квартире… А у нас в коридоре висел над комодом телефон. И мама мне говорила: «Ты мне звони, если будут бомбить. А сама ничего не бойся…» И вот я залезу на стул, потом на комод, потом смотрю циферки, набираю старательно пальчиком и говорю: «Мама, стреляют…» И мама бежит домой, подвергая себя опасности. Прибежит, и мы спускаемся в бомбоубежище. Там вентиляция, лампы керосиновые. И мы брали с собой «летучую мышь» – тоже керосиновая лампа, но на ручке… Но потом бомбёжки стали сильные, частые, и уже и не было сил куда-то бежать. Думалось: как будет, так и будет…
Скоро не стало света, не стало воды, не стало транспорта… У нас были тогда печки-«голландки», топились дровами. Такие большие круглые печи – они шли до самого пятого этажа. И каждый садился около своей печки и топил. Когда дров не стало – стали жечь паркет. У нас же красивые были дома, красивый паркет, изразцовые потолки. А книг сколько…
У меня дедушка по маминой линии был педагогом и преподавал в гимназии. Но его репрессировали. Он преподавал историю и географию и на обложках, на первых страницах рисовал рода войск. Цветной тушью. Наглядно показывал военную форму – какие одежды, какие мундиры были в старые времена. В том числе и в царской России. И кто-то донёс, мол, человек – приверженец царского режима. И всё, решили его репрессировать… Тогда он написал Крупской: «Я ни в чём не виноват. Я просто преподавал историю…» Она ответила: «Чтобы вас не расстреляли и не посадили куда-то в тюрьму, вам придётся выехать из города Ленинграда на поселение в Малую Вишеру…» Это Новгородская область, по Октябрьской железной дороге. Вот туда они и переехали – бабушка с дедушкой. Но дедушка скоро умер, а бабушка пережила всю войну… И второй мой дедушка, который оставался в Ленинграде, тоже умер от голода и болезней. А вот женщины оказались живучей…
Напротив нашего дома был завод «Электроприбор». Его постоянно пытались бомбить. И вот однажды затрясся весь дом, такой грохот раздался. И пыль, и аромат какой-то поплыл. Запахло, как грушевой эссенцией… Дедушка закричал: «Надевайте противогазы. Химическая тревога!..» А мама запротивилась, засомневалась: «Да не может быть…» Мы действительно слышали, что объявляли воздушную тревогу. Её подавали сиреной. Во дворе крутилась спецмашина, и по радио говорили: «Воздушная тревога!» А если химическая тревога – то во дворе били в рельсу, и по радио тоже предупреждали: «Химическая тревога!..» На этот случай у всех были противогазы. Даже у меня был маленький противогазик… И вот мама побежала в соседнюю комнату, смотрит, а там вынесло стену и часть окна. А напротив осколок штору порвал и весь туалетный столик разнёс. Вот духами и пахло…
По карточкам мы получали 125 грамм хлеба. Мама ходила, где давали хлеб, в эти лавки, а я стояла в кроватке, за деревянной решёточкой, и ждала, когда она принесёт мне довесочек… И вот она придёт, принесёт, а сама голодная, щёки провалились, не видно, что это молодая женщина… Я уже после войны видела её фото: думала, это бабушка какая-то. Скелет, обтянутый кожей, вся в морщинах. Хотя она с семнадцатого года. Значит, ей было где-то 24–25 лет…
Помню, нашла я как-то кусок яичного мыла… А у нас стоял рояль – папа играл, и я немножко играть училась. И под роялем небольшое отверстие – я туда заначки прятала… И тут говорю маме: «Тоже спрячу…» А она: «Да его есть нельзя». – «А вдруг потом пригодится…» И спрятала… И мама маленький мешочек сохранила: там горох, немножко семечек, немножко сухариков. И записка: «Это моей доченьке, когда я умру…» Завязала узелочек и положила укромно в буфете…
За водой ходили на реку. По ледяной дороге спускались к проруби. Порой наберут воды и упадут. А если кто-то упал – надо не давать человеку заснуть, иначе умрёт. Потому теребили друг друга, выручали…
Когда стало совсем тяжело, мама отдала меня в детский сад. Там хоть как-то кормили. Но дети такие дистрофики, больные… У них от голода случалось выпадение кишки. И когда вправляли эту кишку, все страшно кричали. И я тоже думала: «Господи, неужели и у меня так будет…»
Помню, в садике нам давали размазню… овсяную кашу. Уж как мы её любили…
А потом мама вдруг услышала по радио, что в районе детского сада объявлена тревога, бомбёжка. Она недалеко работала, в домоуправлении… Прибежала, смотрит – на месте детсада воронка. И всё кругом развалено, стекла битые, кирпичи. Всплеснула тогда руками, заплакала: «Что же это теперь…» Думала, что все дети погибли. А тут женщина подходит и говорит: «Не беспокойтесь, мамаша, детей успели увезти в бомбоубежище…»
И опять я без садика осталась…
Во время войны мы ходили к татарской мечети, собирали камешки. Там такая красивая мозаика была… Собирали и потом рыли в земле место, клали этот камушек, сверху стёклышко – это у нас называлась тайна… Чему могли, тому и радовались – вот камешки, лоскутки…
У меня были куклы, которые делали сами. Собирали всякие лоскутки и делали домики… И почему-то красные лоскутки были больше всего в цене, когда ими менялись. А на улице играли в казаки-разбойники, в лапту… Собирали жёлуди. Хвою собирали…
Еще помню, в кухне стояла большая плита, и ручка у неё большая… И мама спрашивала: «Что ты тут всё стоишь?» А я: «Да я просто постою…» И держалась за эту ручку, чтобы мне теплее было… А бабушка всё вязала – у неё был сундук, и я в этот сундук залезу, посмотрю, какие раньше у неё были платья, как она вышивала… Потом из тряпочек мама мне сделала куклу – пупсик такой вышел гуттаперчевый. Из чулка головка, к ней пришиты чёрные локоны. И чего только не нашила на эту куклу – всякой разной одежды. Эта кукла у меня была как музейная редкость. Уже после войны дети приходили, и мы стали делать кукольный театр. У мамы была лиса на воротник – для нас это серый волк. На пальчики надевали клоуна – это у нас охотник. А красная шапочка – это моя кукла… И мы делали спектакли, даже продавали билетики…
А в войну мало было детей…
Помню, были такие диверсионные сюрпризы. Игрушки со взрывчаткой. Немцы разбрасывали их с самолётов. Дети подходили, думали, что это игрушка – красивая кукла или машинка. Возьмут, а она взорвётся… И потому мама мне всегда наказывала: «Ни в коем случае. Не трогать ничего, не подбирать…» Ещё нельзя было оставлять детей около магазинов в колясках. Говорят, что воровали и… Вот и мама говорила: «Никогда ничего не будем покупать, если не знаем, что это такое…» Ну а хлеб – там наполовину жмых, пищевая целлюлоза. Но всё равно он казался таким вкусным…
Сколько было умирающих людей! И скоро хоронить их просто не могли. Заворачивали в ткань или в одеяло, писали, кто умер, и просто выносили за порог. Или за пределы дома, за ограду на улицу…
В конце января сорок четвёртого года было полное снятие блокады Ленинграда. Такой праздник! Слышу грохот. Думаю: опять бомбят. Залезла под кровать… А мама меня оттуда вытащила: «Доченька, это же победа. Наша первая победа…» Вытащила, одела меня – была зима. И мы побежали к Петропавловской крепости. И там у моста на Неве, где Заячий остров, был салют. И прожектора били в небо. И все обнимались и плакали…
Был у нас дома старинный чайный сервиз на двенадцать персон. Ещё царского времени, с двуглавым орлом. На голубом фоне белые лебеди, кругом лилии, кувшинки… Его моей маме ещё бабушка передала. Потому дорог он памятью. Вот этот сервиз вместе с нами пережил блокаду. Хотя половина предметов всё же разбилась…
«Лягушка» с Арсенальной набережной
…Родилась она в Ленинграде, Арсенальная набережная, 7, – вот домашний адрес её детства. Это пятьсот метров от Финляндского вокзала, рядом с Литейным мостом. И до Невы по гранитной брусчатке рукой подать, а сам берег тогда, перед войной, был пологий, песчаный, под тремя раскидистыми тополями устраивались весёлые ребячьи игры, замки строили, «куличи» пекли. Лишь много позже мостовую значительно подняли, заложили парапет, так что прямого подхода к воде сейчас нет.
Детсад № 33, из которого она уже ходила в подготовительный класс, даже неплохо читала и писала, тоже располагался на берегу Невы, прямо на речном повороте. И когда объявлялась воздушная тревога, все были обязаны бежать в бомбоубежище. Под него приспособили машинное отделение железнодорожного вокзала – расставили по периметру дощатые лавочки.
Бомбёжки, град зажигалок, крутящихся, как вьюнок, и разбрасывающих во все стороны горящий гель, летящие с воем на низкой высоте серо-чёрные самолёты с белыми крестами – было так страшно, что словами не передать. Но со временем сил бегать и прятаться просто не осталось…
Всех взрослых скоро мобилизовали, на Кировском заводе работали теперь круглосуточно, и маму Лиля практически не видела. (Только после войны дочь узнает о голодной смерти матери прямо у станка.) Отца, как военнообязанного, призвали на защиту родного города (Он тоже погибнет год спустя.) Пятилетняя девочка осталась одна.
А на пороге зима – мороз под сорок градусов, в пустой комнате лютый холод, взрывной волной давно выбиты стёкла, от постоянных сквозняков нет спасения, а печку топить нечем. Все заборы, табуретки и шкафы уже сломали и сожгли. Чтобы как-то побороть неотступную дрожь, Лиля, как маленькая старушка, надёвывала на себя всё, что могло хоть немного согреть: на ноги – разбитые валенки, поверх лёгкого пальтишка крест-накрест наматывала расползающуюся – дыра на дыре – серую шаль. Один матрас под себя, лежаком, второй – шалашом, куда можно забраться всей этажной детворой и даже накрыться одеялом. И попробовать как-то утолкаться, согреться и чуть-чуть подремать, размазывая по щекам сопли и слёзы.
Беспризорную дворовую ребятню от пустого шараханья объединил в эти скорбные дни старый сосед – дед Видякин. Борода у него была длинная, до пупа, но, что несколько странно, вся чёрная, в ней едва проглядывался редкий седой волос… За жилыми домами угловым порядком стояли тогда хозяйственные постройки, и самый первый сарайчик значился видякинским. По утрам, как на зарядку, вся шумливая ватага устремлялась гурьбой к нему в очередь. А дед посиживал уже в своей сарайке: перед ним громоздился здоровенный противень, на котором, как студень, был разлит древесный клей. Резал старик Видякин этот самодельный клей на ровные кусочки и на вилочке раздавал, как угощение или награду за будущие благородные труды, каждому подходившему. И малыши этот клеевой брусочек клали в рот и жмурились от удовольствия.
После этого дед Видякин раздавал задания на день. На лестничных площадках, на чердаке стояли тогда бочки с водой, ящики с песком – на чрезвычайный случай пожара. Вот и нужно было их оперативно наполнить, наносить с Невы в вёдрах, в чайниках, в бидонах… Мальчишки – а им всего-то по одиннадцать-двенадцать лет – если проволокой разживутся, тут же гнули из неё щипцы. И когда зажигалка вьюнком закрутится, хвать её этими щипцами и сразу в песок…
Раз в неделю к дому приезжала похоронная санитарная машина. И тогда подростки шли на поквартирный обход: почти без эмоций, привычно и буднично вытаскивали из комнат покойников и грузили их в кузов… Помогали отоваривать и хлебные карточки, особенно тем, кто немогутной. А немогутных было сплошь и рядом. Вот идёт человек за водой, подскользнулся, упал и больше не встал… Или кто-то присел на корточки в очереди, а выпрямиться, подняться нет сил. Всё – уже и хлеба не надо, и ничего не надо…
Девочка-дистрофик, ручки-ножки как ниточки – измождённой до крайности эвакуировали Лилю Земскую с 33-м детсадом Приморского района Ленинграда по Ладоге только летом 1942 года. В это же время вывезли ребятишек 1, 11 и 16-го дошкольных учреждений. В эвакопункте в Кобоне грязнущих, завшивленных малышей, как кирпичики, из рук в руки, перекидали с парома в вагоны-теплушки, рассадили гуськом на солому. А она колючая, хуже вшей донимает.
Месяц добирались до Кирова – вторая дорога жизни. Потом на лошадиных подводах привезли утомлённых ленинградцев в Слободской. И прямым ходом в прачечную – выстроили все четыре детсада рядком и всех наголо обрили. Волосы, одежду – всё в топку. Помыли маленьких блокадников основательно с жидким дегтярным мылом – месяц от каждого этим дёгтем пахло. Вот такая обязательная дезинфекция.
В селе Первомайском, на берегу реки Вятки, в небольшом лесном массиве возведены были три двухэтажных дома: два отдали под детей, по этажу на детсад, в третьем расположились нянечки да воспитатели. Теперь это был один интернат № 110.
Скоро облшвейбыт одел всех интернатских девочек в ситцевые синие платья в белый горошек, кожевенный комбинат предоставил партию своей обуви. Вот и «щеголяли» нередко малыши в кирзовых сапогах в постоянных поисках съестного. Даже смолу со стеновых брёвен нередко соскабливали и жевали, так что зубы напрочь склеивались. Ужас и кошмар!
Кушать действительно хотелось всегда. Таких, как Лиля Земская, неходячих от слабости и истощения, было очень много – их сразу поместили в изолятор. Но и здесь паёк существовал весьма ограниченный: нельзя сразу усиленно кормить изголодавшегося человека, не выдержит его организм. Впрочем, и не было никогда в достатке продуктов. Потому местные жители, как гособязанность, несли в интернат плоды своего подворья. Или кто что может, вплоть до капустных лопухов, из которых варили на кухне жиденькие щи… А ещё в изоляторе давали столовую ложку рыбьего жира в месяц. И в чай добавляли чуть-чуть молока…
Сколько времени прошло – целые десятилетия, а Лилия Семёновна Широкова до сих пор помнит, как однажды приехала за дочерью соседка по дому в Ленинграде и тайком от всех сунула ей гостинцем гороховую лепёшку. Такая вкуснятина – не передать.
А ещё не забывается гнутый пряничек-«бананчик» розового цвета. Наверное, лет десять где-то в закутке пролежал этот хлеб, потому что совсем не жевался. Сухущий-пресухущий… Его принесла тётя Лиза, тоже ленинградская знакомая, когда почти все ребята готовились возвращаться домой, а Лилю с собой не брали. Не к кому было её возвращать, не было больше у неё родителей.
Это была настоящая катастрофа: с десяток остающихся зарёванных малышей такой тогда вой подняли – никакое сердце не выдержит. Все в растерянности – что делать, как успокоить? Вот тут и появился счастливым образом этот чёрствый пряник, немножко отвлёк маленькую девочку от горьких мыслей о покинутости и одиночестве.
Вскоре привели Лилю на второй этаж – передавать в новую семью. А по всему этажу – запах настоящей домашней еды. От одного этого запаха слюни до пола. Заводят в комнату – за столом приёмный отец, приёмная мать, воспитатели, ещё кто-то. А Лиля людей почти не замечает и не слышит практически, о чём ей сейчас говорят, – прямо перед глазами сковорода сантиметров 70 в диаметре, а на ней жареная на рыбьем жире картошка, порезанная хрустящими жёлтыми колечками! Ну как тут слюну удержишь, крепись не крепись – бесполезно. И когда положили ей ровно три штучки – не заметила, как проглотила.
Потом на белой лошади с плетёной корзиной на подводе ехала Лиля Земская в Слободской, в приёмную семью Семёна Ивановича Кисельникова, начальника местной милиции.
Увидела впервые девочку бабушка Оля (мать приёмной матери), только руками взмахнула: «Ой-ой, что за лягушку-то вы привезли? Где ж так миленькую измождили?..» И верно, в синем платье да в кирзовых сапогах, вся высохшая до косточек, Лиля напоминала бедную старушку… Кинулась баба Оля шить новой внучке фланелевое красное платьице – от обновки на щеках сиротки вроде даже румянец загорелся. Следом решила девочку хорошенько накормить. Наложила пельмени с горкой, рядом большущий ломоть каравайного хлеба. Всё от доброй души – кушай, милая, поправляйся.
У Лили после интернатского измора глаза распахнулись – мигом сметала всё до последней крошки. И тут же заумирала – раздуло её, как откормленную свиньюшку, сверху и снизу разом потекло… Бабушка переполошилась, кинулась «скорую» вызывать. Приехали медики, новенькое платье безжалостно ножницами распороли, сделали промывание желудка. А иначе неизвестно, чем бы дело кончилось…
Лиле и потом всё время хотелось есть, но еду давали только с выдачи, лишний кусок хлеба тут же убирался.
Война, интернатское житьё – всё это убивало внутреннее «Я». Все были на одно лицо, никто не выделялся. Всё делалось коллективно и соразмерно… Но, с другой стороны, перенесённое и пережитое закрепили непростой характер, привнесли мужскую энергетику – себя в обиду не дам.
Отца скоро перевели в Киров, дочь начальника милиции Лилия Кисельникова пошла учиться в привилегированную женскую гимназию и… начала шкодить по-чёрному. Ещё совсем соплявка, училась она средне, зато дралась «на отлично» – в квартале её знали жёсткой. В друзьях были одни мальчишки, а девчонок она просто поколачивала. Или схватит в охапку и сунет головой в снег. Мать одной такой страдалицы нередко кричала вдогонку: «Бандитка! Бандитка!» Лилю это слово обижало – какая же она бандитка?! А то встретит одного мальчугана, который белого пёсика замучил, размахнётся портфелем и по морде – фьюить! А портфель из мешковины пошит, в нём пенал металлический, куча книг – тяжёлый…
После школы пошла в лесотехникум, позже окончила политехнический институт, долго работала в строительной отрасли. По мужу она теперь была Широкова. И часто ездила в Ленинград – искала свои родовые корни.
Однажды ехала по городу на трамвае, и словно что-то кольнуло внутри, подсказало: «Вставай, выходи – твоя остановка». Вышла – и точно, родное место! На внутреннем дворике стоял стол – мужики-пенсионеры жучили в домино. Подошла, представилась, разговорились. Спросила про старика Видякина. Оказалось, он погиб от фугасной бомбы… Потом доминошники показали, где расположено домоуправление. Там подняли домовую книгу довоенного времени, где значилось, что Земская Лилия Дмитриевна родилась 5 марта 1936 года в Ленинграде, её отец – Земский Дмитрий Александрович, мать – Чайкина Елена Титовна…
Теперь у неё было не только три фамилии (Земская, Кисельникова и Широкова), но даже две даты рождения (по интернатской выписке, составленной визуально в Слободском, год рождения – 1937-й) и два отчества. И чтобы доказать, что Земская и Кисельникова – одно лицо, пришлось обращаться в суд.
…Безумный страх и инстинктивное желание бежать, прятаться – эта коренная память о пережитом преследовала её ещё долго, очень долго.
Как-то в пионерском лагере, где отдыхала десятилетняя Лиля, вздумали играть в войну. Разделились на две команды. Красненькие лоскуточки вечерами шили – по числу этих захваченных тряпочек в итоге будет определён победитель. А ещё надо найти горн, знамя и барабан – прямые атрибуты победы…
И вот в начале соревнований завели сирену!
И сразу всё всколыхнулось, сразу померкла мирная жизнь. Какая игра, какие лоскутки и барабаны?! Куда, зачем? Одна мысль бьёт в висок: надо бежать, надо где-то схорониться. И она сломя голову помчалась куда-то в поле, как жучок, зарылась в солому и напрочь забыла о времени.
Искали её трое суток…
Пожилые, пожилые,
Улыбнитесь, шире круг!
…Проговорили мы более трёх часов. И как-то незаметно пролетело это время.
– Я тихо говорю. Поймает ли он голос, сделает ли запись? – проявляла беспокойство Дина Николаевна Губина, ставя под большое сомнение способности моего диктофона.
– Поймает, – успокаивал я, зная, на что способна моя японская записывающая техника.
– Ну ладно, если так. А то у меня голос глухой. Да и нервничаю маленько…
– А вы не волнуйтесь… Тем более впереди праздник – День пожилого человека. (Наша встреча состоялась в конце сентября.) Хотя у вас, блокадников, по-моему, несколько иное название этого торжества – День «уценённых людей»?
– Мы себя называем «уценённой молодёжью». Мы всё-таки молоды душой. Поём песни, встречаемся, радуемся этим встречам. И, конечно, огорчаемся, когда кто-то уходит от нас. Это безусловно…
…Вот и мы – пожилые,
Третий возраст настал,
Говорят, он последний
В этом мире причал.
Так зачем, пожилые,
Нам об этом грустить,
Коль законы земные
Не вольны изменить?..
Всё-таки мы должны держаться. Иначе нельзя… Уж если мы пережили блокаду, то сегодняшние трудности-сложности в жизни – это ерунда. По сравнению с тем, что было в войну в Ленинграде. Может быть, именно это преодоление, прожитое и пережитое, и даёт нам силы ещё держаться на земле. Жить. И чем-то даже заниматься, несмотря на болезни… Конечно, неприятно болеть. И болезней с возрастом всё больше и больше – целый букет. Но надо стараться не входить в болезнь. Если человек об этом только и думает – тогда ничего хорошего не будет. Так не поправиться. Надо именно уходить от болезней. Быть грамотным, знать, что с тобой происходит, чем ты болеешь… Вот у меня был инфаркт. Ну, полежала я в кардиологии, струхнула малость. Но ничего, вот ещё хожу…
Впрочем, это же никому не интересно, все эти разговоры о болезнях. Давайте о другом поговорим…
– Давайте.
И ветеран педагогического труда Дина Николаевна Губина, в двенадцать лет пережившая блокаду Ленинграда, а чуть позже оказавшаяся на Кубани в оккупации, вспомнила своё далёкое военное детство.
…Ребята с нашего двора
Мне стали сниться очень часто.
Из всех я выжила одна,
Мне не с кем больше повстречаться…
«…Война. И скоро голод начался. Это страшное испытание – голод. Даже трудно представить, какое это чудовищное испытание… Продукты таяли, те запасы, которые мы в очередях закупили, скоро истощились… Мама ходила на Ситный рынок, пока были силы. Что-то там продавала или меняла. А силы покидали… Соседка скоро умерла, Наталья Ивановна, от голода… Тригорины – они как раз за стенкой жили. Наша комната и рядом соседняя. Продуктовых запасов они не сделали, а по карточкам-то что? Ничего. Когда Бадаевские склады сгорели, каждую неделю сбавляли норму хлеба. И стали только один хлеб давать – ничего больше. И 13 ноября было снижение нормы хлеба, это день, когда папа погиб. 20 ноября, через неделю, мы его хоронили, и нам тогда выдали 125 граммов хлеба… 125 граммов – это же был совсем небольшой кусочек, в пол-ладошки. И это – на целый день. И больше ничего. Вот как тут жить?.. Как умирали Наталья Ивановна и Сережа Тригорины, мне трудно рассказывать. А мама сказала: «Дина, пойдём, вынесем Наталью Ивановну…» Я вошла в комнату: кровать с умершей стояла напротив двери. И на меня смотрели чёрные застывшие глаза… Наталья Ивановна была красивая женщина, брюнетка. Чёрные глаза её были сейчас открыты – и мне казалось, что она сейчас вскочит и кинется на меня. Так было страшно… Мы с мамой сняли её с кровати, на полу расстелили простыню, завернули и вынесли под лестницу у входа в подъезде. Там было специальное место, куда складывали всех умерших жильцов дома… Каково же было всё это видеть, ощущать эту мёртвую тишину, когда до войны наш дом постоянно шумел. Было весело, играл патефон, музыка хорошая звучала, исполнялись замечательные советские песни. «Брызги шампанского», «Рио Рита» – популярные мелодии довоенного времени… А тут я иду за хлебом в магазин, или за водой, или просто так – и боюсь посмотреть, повернуть голову в сторону этой лестницы, где лежали умершие жильцы. И дети, и взрослые, которых я хорошо знала. Это же жутко… И мама моя стала силы терять очень быстро. Она теперь делила этот маленький кусочек хлеба на три части и прятала их подальше, чтобы и самой не съесть сразу, и мне не давать. А я всё нудила, всё приставала, что хлеба хочу…» – из рассказа о блокаде.
…Смотрит ребёнок: холод и тьма,
Мёртвая в доме стоит тишина:
Мёртвая мама, убили отца,
Бабушки нет. Где же брат и сестра?
Мёртвые рядом лежат,
Мёртвые, будто бы спят…
«…Чем запомнился весной сорок второго года город Котельнич? Вокзальчик небольшой деревянный. И вот эти ступеньки, ступеньки, ступеньки вверх. От железнодорожного полотна. Много ступенек. А уже солнышко пригревало, погода стояла хорошая. А я – в зимнем пальто и в валенках. Местные люди, понятно, полегче одеты… И вот мама посадила меня посредине этой лестницы – прямо на наши мешки и чемодан. На нашу поклажу. Сама пошла за билетами. Приходит расстроенная: «А билет я только один смогла купить. Больше не дают…» Что делать? Тут объявили посадку. Поезд был пассажирский, но старого образца. Словно фанерный. Только в кино про старые времена можно такой увидеть… Как посадку объявили, так все и рванули к вагонам. Кто в двери ломится, кто ещё как… Мама говорит: «Так мы с тобой никуда не сможем пробиться. Что-то надо делать…» А первое окно от двери почему-то было приоткрыто. Мама и командует: «Давай-ка лезь…» Подсадила меня на плечо, я и залезла в вагон. Мешочки какие-то у неё взяла. А она с чемоданом пошла уже через нормальные двери. Через основной вход… Устроились мы с ней на первой скамейке. А потом думаем: а как же дальше, один же билет? Как быть-то? Контролёры же ходят, проверяют билеты. Вот мама и советует: «Придётся тебе, Дина, под лавку лезть. Там схорониться…» Я под лавку залезла, меня мешками прикрыли. Незаметно… А на скамьях тесно, люди плотно друг к дружке сидят. И тут контролёр. Но ничего – обошлось. Меня никто не выдал… Так доехали до города Горького. Там ночевали. И я запомнила: вокзал там большой, здание солидное, но внутрь всё равно не попасть. Народу много. И мы устроились в каком-то углу. Смотрю я по сторонам и невольно замечаю. Там – подросток, и там – мальчишка. И ещё, и ещё. Беспризорные это дети. И они по ночам промышляют. Вот смотрят внимательно – что у кого есть. Пощупают даже твой мешок. И если приглянётся, утянут при удаче… Кое-как мы там всё же до утра дотянули. А билетов и в Горьком нет. Как быть? Пошла мама на разведку по путям. И нашла в тупике товарный состав. Почти пустой. С кем-то даже переговорила. Оказалось, состав следует в южном направлении, в сторону Сталинграда. Что нам и надо… Похватали мы свои вещи и поспешили к тому составу. Вновь безбилетники…» – из рассказа об эвакуации.
…Детство блокадное –
Горькое, слёзное –
Мне не забыть никогда.
В годы осадные
Стала я взрослою –
Детство ушло навсегда…
«…Так уж случилось, что из эвакуации мы с мамой попали в оккупацию. В Армавире это было, где жила мамина сестра, тётя Маруся… Полгода довелось там быть. Вот как вас вижу, так видела и немцев… А ещё видела, мне дядя Трофим показывал, когда с ним ездила на лошадях, под станицей Советской… там был тот же Бабий Яр. В балке евреев заставляли рыть себе могилы, а потом их расстреливали. Здесь даже земля шевелилась… А в Армавире однажды во всё небо – куда ни посмотри – летали чёрные хлопья пепла. Что такое, откуда? Потом люди сказали – это на берегу Кубани жгли одежду евреев. Вот вся река пеплом и покрылась…
Потом на центральной площади повесили трёх братиков. Старшему было шестнадцать лет. Повесили мальчиков. За что? А за то, что старший убил свою мать. А мать снюхалась с немцами… Как тут быть, кто прав, кто нет? А он был комсомолец, этот шестнадцатилетний мальчик. Не смог такой поступок своей матери перенести…
Потом стали заселять немцами весь город. Хочешь, не хочешь – ни у кого не спрашивали. И к тёте Марусе заселили двух немцев. Конечно, страшно было. Да и повсюду… в людском общежитии – страх очень большой. Насторожённость, напряжённость, тревога… Но присмотрелись со временем – вроде и не злые эти «наши» немцы… Они были рядовые. Вечерами, когда у них было свободное время, прямо на полу посреди комнаты они устраивали акробатические этюды. Это было даже забавно. Я же хорошо помнила ленинградский цирк, куда мы ходили с папой… А я в те дни очень мучилась большими язвами на ногах. Это после блокады, следствие всего перенесённого. И ни тетя, ни мама ничем не могли помочь. Прямо такие фурункулы были… И вот один из немцев это заметил и принёс мне мазь. В баночке, какая-то жёлтенькая была мазь. Даёт мне, мол, возьми, помажь. И действительно скоро помогло. И мы тогда поняли, что и среди немцев тоже есть разные люди… Да, они были солдаты, воевали против нас. Но душой добрые… А под конец, когда они уже уходили из города, один на кулаках мне показал, что он думает о войне. Кулак о кулак постукал костяшками пальцев и сказал: «Сталин, Гитлер – капут!» Мол, оба они виноваты в том, что произошло. На обоих лежит вина, что эта чудовищная война случилась…» – из рассказа об оккупации.
…Недавно я раскрыл небольшую поэтическую книжку, где на обложке значится автор – Дина Губина, и название – «И я оттуда, из блокады», и прочёл стихи о памяти, о Ленинграде, о Ладожском озере, о маме… А ещё «Вальс пожилых», где есть такие строчки:
…Пожилые, пожилые,
Улыбнитесь, шире круг!
Вспомним годы молодые,
Позабудем про недуг!
Вспомним песни под гитару,
Позабудем про покой,
Топнем – левой, топнем – правой,
Эх, тряхнём-ка стариной!..